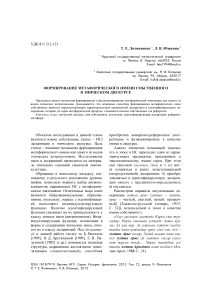Формирование метафорического имени собственного в эпическом дискурсе
Автор: Литвиненко Татьяна Евгеньевна, Ююкина Людмила Викторовна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 9 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Предложен анализ механизма формирования и функционирования метафорической номинации как одного из видов эпических антропонимов. Доказывается, что основным способом формирования метафорических имен собственных является перекатегоризация характеризующей предикатной дескрипции в идентифицирующую дескрипцию, которая, не теряя метафорической природы, становится именем собственным для референта.
Эпический дискурс, имя собственное, апеллятив, идентифицирующая дескрипция, референт, метафора
Короткий адрес: https://sciup.org/147218974
IDR: 147218974 | УДК: 811.512.153
Текст научной статьи Формирование метафорического имени собственного в эпическом дискурсе
Объектом исследования в данной статье являются имена собственные (далее – ИС) дескрипции в эпическом дискурсе. Цель статьи – описание механизма формирования метафорического имени как одного из видов эпических антропонимов. Исследование имен и дескрипций проводится на материале эпических сказаний хакасской лингво-культуры.
Обращение к эпическому дискурсу, возникшему в результате разложения древних мифов, позволило выявить набор антропоконцептов, выраженных ИС с метафорическими значениями. Отмеченные виды имен являются бифункциональными образованиями, поскольку, наряду с идентификацией, выполняют индивидуализирующую функцию. Наличие идентифицирующей функции указывает на их принадлежность к классу личных имен (антропонимов). Индивидуализирующая функция, заложенная в форме и содержании эпических имен, относит их к классу дескрипций. Под дескрипцией в данной работе (вслед за Б. Расселом [1999], Н. Д. Арутюновой [1999], Е. В. Падучевой [1985] и др.) понимается языковая структура, выраженная апеллятивом (апел-лятивным словосочетанием), способная приобретать конкретно-референтное употребление и функционировать в качестве онима в дискурсе.
Анализ эпических номинаций показал, что в эпосе в ИС переходил один из характеризующих предикатов, приложимых к таксономическому имени героя. При этом сам таксоном ( человек , дева и т. п.) мог: а) оставаться в ранге экзистенциальной (интродуктивной) дескрипции; б) преобразовываться в идентифицирующую дескрипцию вместе с предикатом-определением; в) опускаться.
Рассмотрим варианты актуализации дескрипции алтын арыг ( алтын – золото, арыг – чистый, светлый, ясный, прозрачный) [Хакасско-русский словарь, 1953. C. 32]), используемой в эпосе в качестве имени собственного.
« Улуг аалнынъ кистiнде Кирiм сын тур-чадыр. Кирiм сыннынъ устунде Алты хур-лыг Ах хая пар. Ах хаянынъ iстiнде чалбах таста чада путчадыр арыг сiлiг хыс кiзi – Алтын Арыг полар. Худай хынып чаян хыс кiзi Алтын Арыг Ах хаяданъ сыгар синге чит парган полар… Чарыг тигiрдiнъ ал-тында Алтын Арыгданъ алып полбас » (Ал-тын-Арыг, 1988. C. 24).
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Том 12, выпуск 9: Филология © Т. Е. Литвиненко, Л. В. Ююкина, 2013
«За большим селением стоит хребет Ки-рим-сын. На вершине хребта Кирим-сын есть Белая скала с шестью уступами. Внутри Белой скалы на плоском камне рождается прекрасная дева – это будет Чистое Золото. Благословленной богом Деве Чистое Золото , из Белой скалы выйти, видно, время пришло… Под ясным небом не будет богатырки лучше, чем Чистое Золото » (Алтын-Арыг, 1988. С. 266).
Дескрипция алтын арыг номинирует главную героиню эпического произведения – девушку-богатырку.
Номинация хыс кiзi (дева) является простой дескрипцией таксономического значения, реализуемой в экзистенциальной и ин-тродуктивной позициях. В сочетании с характеризующим определением арыг сiлiг (прекрасная) данная именная группа выступает как неопределенная дескрипция и представляет собой первую номинацию объекта в бытийном предложении « путча-дыр арыг сiлiг хыс кiзi » (рождается прекрасная дева), вводящем объект хыс (дева) в мир текста.
Однако таксономическое имя хыс не становится функциональным ИС. В структуре эпоса в этой роли реализуется одна из идентифицирующих дескрипций – алтын арыг , называющая, наряду с хыс , референт произведения .
Как показал материал исследования, по своему происхождению (первичному статусу) данная дескрипция является одной из многочисленных предикатных дескрипций, входящих в структуру эпического повествования. Из позиции предиката – « алтын арыг полар » при хыс как субъекте она переходит в позицию характеризующего (предикатного) определения при дополнении – « хыс кiзi Алтын Арыг », изменяясь категориально в следующем предложении в идентифицирующую дескрипцию в роли подлежащего.
В дальнейшем тексте эта дескрипция реализуется, наряду с другими предикатными дескрипциями, не изменившими своего статуса: «ханнынъ хызын алпирерге полыс-ча» ≈ та, которая помогает наследнику ханского престола в борьбе за невесту; «Тамы-ханы одiрче» ≈ та, которая убивает сильнейшего врага – Тамы-хана; «ханнынъ оол-гына хан-пиг поларга хабасча» ≈ та, которая возращает ханского сына на престол; «чон-нарны, чобагданъ азырылып, чирiне айлан- дырча» ≈ та, которая возвращает угнанных людей в родное владение; «чирлiг малны чирiне таратхан» ≈ та, которая возвращает угнанный скот в родные земли; «чоннынъ учун чобал чорче» ≈ та, которая заботится о народе; «сыгар кунненъ сыныхча» ≈ та, которая прекрасна как восходящее солнце; «падар айданъ соглыгча осхас» ≈ та, которая чиста как убывающая луна; «ах агыллыг» ≈ та, которая чиста душою, «кÿн сагыстыг» ≈ та, которая имеет светлые мысли; «чiпче чазыгы полбаан» ≈ та, которая вины и с ниточку не имеет и т. д. А также с гетероно-минативными единицами (определенными дескрипциями), занимающими позицию актанта: «Че, чачанъ солен полза, чорiбiс! – Если сестра просила, то поезжай!» (Алтын-Арыг, 1988. C. 78). «Алтан салган ал пазы алыптынъ артых алып парчадыр» – На коне лучший из богатырей едет» (Там же. С. 98).
Отметим, что подобные дескрипции, в совокупности эквивалентные произведению как «биографии» и социально-этическому портрету героини, по отдельности не актуализируют «объект в его целостности, а представляют некоторую временную фазу, или срез объекта» [Падучева, 1985. С. 84]. В другой терминологии, набор таких дескрипций представляет собой ряд «динамических интерпретант» [Пирс, 2001], характеризующих референта в определенное время с целью его идентификации.
Что же касается дескрипции алтын арыг , то она, как показывает эпический дискурс, актуализирует ключевой признак объекта как целого и содержит конечную интерпре-танту, обусловливающую переход стадиального оценочного признака в константный. Это, в свою очередь, позволяет использовать данную идентифицирующую дескрипцию не только как функциональное, но и как подлинное ИС, т. е. постоянное средство номинации, обладающее кроме коннотата конкретно-референтным употреблением.
Преобразование дескрипции алтын арыг в антропоним подтверждается следующими примерами с именем в актантной позиции:
«Улуг чыргалын корт, ус кун турган Алтын Арыг. <...> Аргалыг сында турып арыг сiлiг Алтын Арыг, аарлыг тойын корiп, ачырган турадыр. Улуг чыргалга хыгырба-аннанъар изiргенiп турчададыр. Изебi чох Алтын Арыг илге илек пол тургандаг, погiмi чох Алтын Арыг чонга чоох осхас полган» (Алтын-Арыг, 1988. С. 104).
«Три дня стояла Чистое Золото , глядя на большое ликованье. <…> Прекрасная Чистое Золото стоит на высоком хребте одна, наблюдая за дорогим для нее пиром, переживает. Страдает оттого, что не пригласили ее на большой пир. Похоже, могучая Чистое Золото стала у народа предметом для пересудов. Видно, неукротимая Чистое Золото стала у народа предметом для насмешек» (Там же. С. 345).
« Аргалыг сыннынъ устунде чуртайбын за », – теен , ачырганган Алтын Арыг , ах ибденъ сых чорiбiскен. Ах сабдар адына ал-танып , аал аралап парыбысхан. Аргалыг Ах сынга сых килiп , аттанъ тускен Алтын Арыг , чалбах тас тозе тастап , умах тас тасти тастаан , алты айланып , Алтын Арыг анда чат салган (Там же. С. 83).
«Что ж буду жить на высоком хребте, – сказала огорченная Чистое золото и вышла из белого дома. Сев на бело-игреневого коня, через аал (село) проехала. Поднявшись на высокий хребет Ах-сын, с коня сошла Чистое Золото . Широкий камень постелью сделала, камни поменьше вместо подушки положила, шесть раз пройдя туда и обратно, Чистое золото там и улеглась» (Там же. С. 325).
Рассматриваемое с позиций формирования переносного значения ИС Алтын Арыг – это идентифицирующая дескрипция-метафора, восходящая к предикатной метафорической дескрипции. Еще на стадии предикации метафорическая дескрипция проявляет себя как семантически двойственное, двуплановое образование. Характеризуя субъект, ставший мишенью метафорической проекции [Лакофф, Джонсон, 2004], дескрипция полностью не утрачивает денотативный компонент, сохраняя свою предметную соотнесенность с «золотом» как источником осуществляемого переноса. Кроме того, она приписывает субъекту ряд дополнительных ассоциативных признаков алтын : ‘благородство’, ‘твердость’, ‘ценность’, ‘красота’.
Преобразуясь затем в ИС, дескрипция закрепляет указанный коннотат за девушкой как за своим единственным референтом в дискурсе. При этом, однако, семантика ИС не ограничивается только референциальной и коннотативной составляющими. ИС-де-скрипция сохраняет и некоторый (значи- тельно редуцированный) сигнификативный слой, актуализация которого обусловлена самим используемым апеллятивом – алтын.
Полностью соглашаясь с мнением Н. Д. Арутюновой о том, что «таксономически существенные признаки класса <…> устраняются» [1990. С. 236] из характеристики субъекта метафоризации, отметим, что их абсолютная элиминация может привести к утрате метафорическим ИС своей дескриптивной индивидуализирующей функции. Иными словами, его значение будет трудно отличить от ряда других репрезентантов метафоры знатная девушка – это драгоценность . В частности, от ИС-дескрипции Чистый алмаз , сочетающей конкретную референцию в дискурсе с практически идентичным золоту коннотатом (благородство, твердость, ценность, красота).
К сказанному добавим, что на возможность указания на «референт при помощи знаков с различными сигнификатами» в тексте обращали внимание Т. В. Булыгина и С. А. Крылов [1990. С. 444], включая в число таких знаков и метафорические выражения типа надувало Фагот .
Сочетание антрополексемы Алтын с эпитетом Арыг , «удваивающим» ключевые признаки – ‘чистый, благородный’, актуализирует метафорический перенос с чистоты как физического признака на этические свойства личности героини. Таким образом, эпическое прочтение ИС Алтын Арыг – сильная благородная девушка.
Таким образом, эпическое имя Алтын Арыг может интерпретироваться как имя концепта, актуализируемого всей совокупностью метафорических и неметафорических дескрипций сказания. Это позволяет рассматривать сумму таких дескрипций в качестве эквивалента идентифицирующей дескрипции-антропонима, обладающего кроме метафорической семантики значением, полученным им в тексте эпоса. Иными словами, героическое сказание как совокупность дескрипций может быть свернуто в ключевом имени произведения, став набором его «эпических» сигнификативных признаков, объединенных с его особым конно-татом.
Рассмотрим ИС-дескрипцию Пуга моке «Сильный бык», демонстрирующую, что в эпическую эпоху метафорический перенос осуществлялся не только по модели «не- одушевленный предмет – одушевленный предмет», но и «животное – человек». Приведем фрагмент сказания.
« Уйбат чогар Пуга Моке теен ki3i чур-тапчатхан. Пуга Моке iki ооллыг полтыр. Анынъ пiр окiс чеенiзi тыт чаалыг полтыр. Позы Пуга Моке муус чаалыг полтыр _ Пуга Моке кор тур , пызолыг ах киик ойлап одыр , пiлiн турза , угы коксiн отiре саап партыр. Iкi оолгы чеенiзiненъ узоленъ чугу-русте читтиер. Пуга Моке чоохтап пир-ген: “ Тохтанъар , палаларым , мин олеге чорбiн , хумартхы созiм чоохтап пирим , пу Ухты сыдап полбин турбын , пiр тудым даа сура тартыбызынъар ”» [Трояков, 1995. C. 154].
«На реке Уйбат жил один человек, которого называли Сильным быком . У Сильного быка было двое сыновей. Также жил с ним племянник-сирота, у которого был лиственничный лук. У самого Сильного быка был роговой лук. Смотрит Сильный бык , а там олень с олененком бежит, и вдруг осознал: стрела ему грудь насквозь пронзила. Оба сына с племянником прибежали к нему. Сильный бык сказал им: «Погодите, дети мои, я скоро умру, скажу свое завещание, не хватает сил выдержать эту стрелу, вытащите ее только на пять пальцев» (пер. наш. – Т . Л. , Л. Ю. ).
В первом предложении апеллятив кiзi (человек) является неопределенной дескрипцией таксономического значения. В качестве экзистенциальной дескрипции он представляет собой первую номинацию объекта в бытийном предложении « кiзi чур-тапчатхан … » – жил один человек. Как и в предыдущем случае, таксономическое имя широкой семантики кiзi не переходит в дальнейшем в разряд ИС.
Кроме того, в первом предложении присутствует дескрипция пуга моке , используемая в так называемой автонимной позиции. Согласно Е. В. Падучевой [1985. С. 66], именные группы при автонимном употреблении (в контексте глаголов называния) направлены не на референт текста, а «обозначают сами себя», что позволяет отнести соответствующую дескрипцию к неопределенным.
Однако мы считаем, что данная дескрипция, закрепленная в эпосе в устойчивой дискурсивной форме, генетически связана с характеризующей предикатной дескрипцией, точнее, с метафорическим предикатом, возводимым к структуре кiзi – пуга моке – «этот человек – сильный бык» ← «подобен сильному быку».
В последующем тексте дескрипция пуга моке переходит в актантную позицию, преобразуясь тем самым в идентифицирующую дескрипцию, функционирующую как имя собственное. При этом ее предшествующее употребление при глаголе называния четко указывает, что данная дескрипция служит в сказании единственным полноценным антропонимом номинируемого персонажа. Таким образом, ИС Пуга моке приобретает в эпосе конкретно-референтное употребление, частично сохраняя сигнификативный слой, присущий лежащему в его основе апеллятивному словосочетанию.
Что же касается предпосылок выбора именно этой характеризующей дескрипции из множества других предикатов (например: « уйбат чогар чуртапчатхан » – жил на реке Уйбат; « iкi ооллыг полтыр » – был отцом двух сыновей; « пiр окiс чеенiзi тыт чаалыг полтыр » – приютил племянника, имевшего лиственничный лук; « анъчы полган » – был охотником; « оолларга хынган паба » – любим сыновьями; « хумартхы созiн чоохтап пирген » – сказал свое завещание и т. д.), то они были определены спецификой хакасской лингвокультуры.
Уже в период расцвета Окуневского искусства в ней фиксируется миф о быке-прародителе, центральными образами которого выступают женщина-мать и ее тотемный супруг – бык. Архаический бык, таким образом, концептуализируется как животное с признаками «родоначальник, источник плодородия», закрепленными в коннотате зоонима пуга. В мифологическую эпоху указанные признаки приписывались доме-тафорической ипостаси быка-демиурга – человеку, впоследствии включаясь в структуру метафорических антропонимов хакасов. Согласно М. И. Боргоякову, миф посредством своей устойчивой смысловой единицы дал конкретный образ, который в эпосе «ассоциируется, с одной стороны, с образом Солнца, с другой стороны, с понятием <…> “плодородие”, игравшим исключительную роль в жизни древних кочевых народов» [Боргояков, 2008. С. 76]. Сказанное косвенно подтверждается и использованием в тексте других предикатных дескрипций, в том числе iкi ооллыг – отец двух сыновей.
Характеризуя семантику метафорических ИС, добавим, что значение одушевленности / неодушевленности в них могут передавать не только имена существительные, но прилагательные. С этой точки зрения различаются одушевленно-маркированные прилагательные, обозначающие признаки живых существ (например, мирген – проворный, меткий), неодушевленно-маркированные имена, обозначающие признаки неживых предметов (явлений) – пространственные и временные качества и отношения, воспринимаемые чувствами свойства и качества вещей, признаки по отношению к материалу изготовления ( тимир – железный, тас – каменный и т. п.).
Совпадение сем одушевленности / неодушевленности определяет функцию эпитета в имени. С этой точки зрения эпитет может выступать либо активатором признака, либо его модификатором. В дескрипции Пуга Моке не происходит противопоставления сем одушевленности / неодушевленности, так как оба компонента ассоциируются с одушевленными объектами. В данном случае прилагательное выступает активатором признака существительного пуга .
Возникшие в результате метафорического переноса ИС-дескрипции могли быть выражены и простым апеллятивом: Ылачин – Сокол, Хураган – Ягненок, Хулун – Жеребенок, Хурусха – Мерлушка, Хуча – Баран, Парчых – Скворец, Тиин – Белка, Пага – Лягушка, Торгай – Жаворонок и т. д. [Бутана-ев, 2008].
Такие имена существовали и вне текстового пространства. В частности, дескрипция Ылачин , упомянутая в перечисленном выше списке личных имен, была приведена Н. Ф. Катановым в «Отчете о поездке в Минусинский уезд Енисейской губернии, совершенной летом 1899 года» [2001].
Номинация также демонстрирует сложную диалектику преобразования дескрипции в ИС. Ее реконструкция может быть представлена в виде переноса апеллятива как метафорической предикатной дескрипции « кiзi – ылачин », восходящей к предикатной дескрипции-сравнению « ылачин осхас » (подобен соколу), в актантную позицию или в позицию обращения. В результате апеллятив ылачин преобразуется в идентифицирующую дескрипцию, которая, не утрачивая метафорической природы, становится ИС референта.
Подобный генезис также обусловлен мифологическими представлениями хакасов, закрепленными в зоониме в виде лингво-культурно-специфичного коннотата «почитаемая, уважаемая птица, претендент в цари в мире птиц». В результате метафорической проекции указанные признаки из сферы-источника «птица» переносятся в сферу-мишень «человек», приводя к появлению дескрипции-антропонима, характерного для эпической эпохи.
Таким образом, изучение хакасских ИС, основанных на метафоризации, позволяет сделать вывод о том, что данные номинации отличаются особым генезисом, при котором определенная дескрипция / ИС образуется из характеризующей предикатной дескрипции.
Проанализированные антропонимы демонстрируют сложную диалектику преобразования апеллятивного сочетания с прямым значением в метафорическую предикатную, а затем ИС-дескрипцию путем проекции свойств денотата имени нарицательного на референт, относимый к другому классу объектов. Эпическое имя-метафора строится на основе подобия и демонстрирует перенос признаков с одного объекта на другой при наличии сходства между ними. ИС-дескрипции такого порядка характеризуются утратой первичного денотативного компонента и большей части сигнификативных признаков. Редукция сигнификата, восполняемая коннотативным компонентом, демонстрирует движение от непосредственной буквальности вещи к ее метафорическому значению.
GENERATION OF METAPHORICAL PROPER NAME IN THE EPIC DISCOURSE
Список литературы Формирование метафорического имени собственного в эпическом дискурсе
- Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. 2-е изд., испр. и доп. М.: Языки русской культуры, 1999.
- Боргояков М. И. Гуннско-тюркский сюжет о прародителеолене (быке). М., 2008. URL: http://www.istorya.ru (дата обращения 03.05.2010).
- Булыгина Т. В., Крылов С. А. Сигнификат // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1990.
- Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М.: Едиториал УРСС. 2004.
- Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М.: Наука, 1985.
- Пирс Ч. С. Принципы философии: В 2 т. СПб., 2001. Т.
- Рассел Б. Философия логического атомизма. Томск: Издво «Водолей», 1999.
- Хакасско-русский словарь / Под ред. Н. А. Баскакова. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1953.