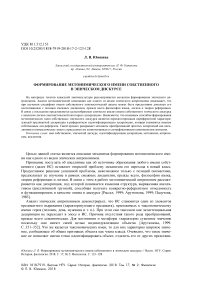Формирование метонимического имени собственного в эпическом дискурсе
Автор: Ююкина Людмила Викторовна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.17, 2018 года.
Бесплатный доступ
На материале текстов хакасской лингвокультуры рассматривается механизм формирования эпического антропонима. Анализ метонимической номинации как одного из видов эпического антропонима показывает, что при изучении специфики имени собственного лингвистический анализ может быть продуктивно дополнен его исследованием с позиции смежных дисциплин, прежде всего философии языка, логики и теории референции. В связи с последним представляется целесообразным соотнести анализ имени собственного эпического дискурса с анализом логико-лингвистической категории «дескрипция». Выявляется, что основным способом формирования метонимических имен собственных эпического дискурса является перекатегоризация нереферентной характеризующей предикатной дескрипции в референтную идентифицирующую дескрипцию, которая становится именем собственным для референта. Такой процесс раскрывает механизм преобразований простых дескрипций как апеллятивов в ономастические знаки с присущими им коннотативным и сигнификативным компонентами значения.
Имя собственное, антропоним, эпический дискурс, идентифицирующая дескрипция, метонимия, апеллятив
Короткий адрес: https://sciup.org/147219896
IDR: 147219896 | УДК: 811.512.153 | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-2-123-128
Текст научной статьи Формирование метонимического имени собственного в эпическом дискурсе
Целью данной статьи является описание механизма формирования метонимического имени как одного из видов эпических антропонимов.
Признание постулата об апеллятиве как об источнике образования любого имени собственного (далее ИС) оставляет открытой проблему механизма его перехода в новый класс. Продуктивное решение указанной проблемы, невозможное только с позиций ономастики, предполагает ее изучение в рамках смежных дисциплин, прежде всего, философии языка, теории референции и логики. В связи с этим в работе метонимический антропоним рассматривается как дескрипция, под которой понимается языковая структура, выраженная апелля-тивом (апеллятивной группой), способная получать конкретно-референтную отнесенность и функционировать в качестве онима в дискурсе [Рассел, 1999; Арутюнова, 1999; Падучева, 1985].
Анализ эпических антропонимов демонстрирует, что ИС становится один из элементов предикатного выражения (характеризующего предиката), приложимых к таксономическому имени героя (человек, дева, мужчина и т. п.). При этом сам таксоном как экзистенциальная дескрипция не переходит в эпосе в ИС. Причина отсутствия такого рода преобразований, прежде всего семантическая. Для метонимии и метафоры «характерно суженное значение поскольку они имеют своей целью индивидуализацию объекта» [Арутюнова, 1999. С. 351‒352]. Что же касается таксономических имен, то для них характерно широкое значение, сообщающее об общих признаках объекта как члена класса. Очевидно, что такое значение не позволяет имени точно идентифицировать объект, отделить его от других представи-
Ююкина Л. В. Формирование метонимического имени собственного в эпическом дискурсе // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2018. Т. 17, № 2: Филология. С. 123–128.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2018. Том 17, № 2: Филология © Л. В. Ююкина, 2018
телей данной категории. Иными словами, такое имя не обладает необходимыми референциальными возможностями и прагматикой. Таким образом, в процессе конструирования метонимического антропонима таксоном, не обретя определенной референции, опускается.
Лексико-семантическая структура эпических текстов позволяет выделить следующие виды метонимических антропонимов.
-
1. Имена с одинарным метонимическим сдвигом:
-
• предмет ^ его обладатель: Чибек Арыг ‘Чистая шелковая нить’, Чарыг Тана ‘Светлая пуговица’, Хара Мартха ‘Черная пуговица’, Чилбей Арыг ‘Чистое опахало’, Торалдай ‘Гнедой жеребец’, Тибен Арыг ‘Чистая Игла’, Пулай Чачах ‘Клубящаяся кисточка (платка)’ (примеры из: [Субракова, 2007]);
-
• время или место рождения ^ человек: Айдолай ‘Полнолуние’ (родившийся в полнолуние), Арахын ‘Новолуние’ (родившийся в новолуние), Алан ‘Степь’ (родившийся в степи) (примеры из: [Бутанаев, 1993]);
-
2. Имена с бинарным метонимическим сдвигом:
-
• предмет + социальный статус его обладателя ^ его обладатель: Кумус Чустук ‘Серебряный перстень’, Алтын Тана ‘Золотая перламутровая пуговица’, Алтын Поос ‘Золотая подвязка’, Алтын Чага ‘Золотой пояс’ (примеры из: [Субракова, 2007]);
-
• предмет + социальный статус его обладателя ^ человек: Хан Мартха ‘Правитель-пуговица’, Хан Чаачах ‘Правитель-лук’ и т. д. (примеры из: [Субракова, 2007]).
Представим ИС-дескрипцию, в составе которой присутствует соматический компонент, подтверждающую справедливость слов А. Н. Уайтхеда о том, что «обыденная речь не отличает тело человека от его личности» [1990. С. 590].
Хачан-да iкi харындас чуртаптырлар. Улуг харындазынынъ олган узах иб толдыра полтыр. Кiчiк ха-рындас тiзенъ пала азырап полбачанъ полтыр. Пала торiзе, пiрее наме полып, уреп ле парчанъ полтыр. <…> Наа ла торен паланы, хайралап, алчанъ тiп ырах чирзер апар саларга чарат салганнар. Аттарына алтынып, тайгазар чорiбiстiрлер. <…> Ам iкi харындас паланы хара паарнанъ азырап тайгада чуртабыстiлер. Пiрсiнде олар анънап хустап парыбыстырлар. <…> Iкi матыр пала таап алтырлар <…>. Пала чох апсах-инейге оолагасты сабыстырлар <…>. Апсах от хазында сiске хази сазып, хара па-ар сiстеп одырганда, iзiктi тартып, iкi кiзi кiр килдi. Олар апсахха айланып сураглаанар.
– Оолгынъ пар ба, апсах кiзi? Апха пас чöрбiс.
– Тоореткен оолгым чогыл. Оскiрген оолгым кiчiг, читiлiг ле. Тыыгалах таа.
– Пiс читi частанъ сыгара апха пасчабыс. Ады кемдiр?
Ам апсах оолгынынъ адын сöлебiзерге итсе, ады чогыл. Одырып – одырып, хорыга тарта, апсах, па-ар астепчеткен кор сагынып алып, niди тiпче: «Хара Паар ады» [Трояков, 1990. С. 34-42].
Когда-то жили два брата. У старшего брата дом был полон детьми. Младший брат не мог вырастить и выкормить ни одного ребенка: что-нибудь с ними происходило, они умирали. <...> Для того чтобы сберечь вновь родившегося ребенка, решили они увести его далеко от тех мест. Сели на коней и уехали в глухую тайгу. Зажили они здесь, охотились, кормили ребенка шашлыками из печени. <...> Однажды ушли оба брата на охоту. А ребенка нашли проезжавшие мимо два воина, забрали его, <„> продали мальчика бездетным старикам <...>. Сидит как-то старик возле огня и готовит шашлыки из печени.
Вдруг заходят двое переписчиков и задают ему вопросы:
-
- Мы переписываем мальчиков, есть ли у тебя сын, старик?
-
- Родного сына у меня нет, а сын, которого я воспитываю, еще мал, ему только семь.
-
- Семилетних мы уже записываем. Как его зовут?
В страхе старик обнаружил, что имени у него нет. Задумавшись над этим, продолжая готовить шашлыки из печени, старик ответил: «Его имя - Черная Печень» [Там же. С. 73].
В этом примере демонстрируется акт имянаречения мальчика. Первоначально в тексте референция осуществляется посредством определенной дескрипции, возникшей в результате преобразования таксономического имени пала ‘ребенок’ и кореферентных ему гетерономинаций оолагас ‘мальчик’, оскгрген оолгы ‘воспитанник’. Также в тексте присутствует автонимное употребление антропонима: Хара Паар ады ‘Его имя - Черная Печень’, наделяемого в дальнейшем конкретно-референтным употреблением. Ср.:
Ур-ас полганда, Хара Паар халын тайгаданъ ачых агазы чох чирге сыхты. Пу чазы чирде Хара Паар аттынъ сын чоргзшенъ сылада чортырча [Трояков, 1990. С. 34-42].
Вскоре Черная Печень выехал из глухой тайги в открытую местность. В этой степи Черная Печень погнал коня вскачь’ (перевод наш. – Л. Ю. ).
Обратившись к вопросу о возникновении ИС-дескрипции Хара Паар , можно предположить, что она стала результатом преобразования апеллятива-сирконстанта паарыннанъ , входящего в предикатную группу паарыннанъ сыххан ‘родился от печени’. Данная предикатная группа может быть представлена в виде своего логико-лингвистического аналога, т. е. в виде предикатной дескрипции ол, хайзы паарыннанъ сыххан ≈ ‘тот, который родился от печени’. При переходе в актантную позицию эта дескрипция приобретает статус идентифицирующей, т. е. становится именем с конкретной референцией. В дальнейшем она упрощается до элемента паар , получающего метонимическое значение, и приобретает эпитет хара .
ИС-дескрипция Хара Паар является частью подобного рода номинаций: тайгада чуртаан ≈ ‘тот, который жил в тайге’, ырах чирзер апар салган полтыр ≈ ‘тот, который был далеко увезен’, паарнанъ азыранган ≈ ‘тот, которого кормили шашлыками из печени’, iкi матырга таптатхан ≈ ‘тот, который был найден двумя воинами’, апсах-инейге сабыстырган ≈ ‘тот, которого продали бездетным старикам’; позынынъ чирiнзер парган ≈ ‘тот, который вернулся на свою родину’ и т. д.
ИС-дескрипция Хара Паар строится на основе метонимической проекции, обусловленной хакасской лингвокультурой. Согласно традиционным представлениям хакасов, «дети зарождаются в печени, и, следовательно, все родственники происходят от единой печени. Неудивительно, что в то время у хакасов бытовал вопрос такого рода: «Паарыннанъ сыххан паланъ пар ба (имеете ли вы ребенка от печени, т. е. родного)» [Бутанаев, 2004. С. 120].
Эпитет хара ‘черный’ в значении ‘чистый, без примесей’ усиливает метонимические признаки и представляет ребенка ‘действительно от печени рожденным’. Как метонимическое ИС, дескрипция получает значение ‘действительно родной ребенок’.
Проанализируем варианты актуализации дескрипции Айдолай ‘Полнолуние’, используемой в качестве ИС.
Че сагам мин Хызыл колзер манъзырапчам. Пiлче нимессiнъ ме зе ол колнi, синiнъ чуртынънанъ ырах нимес нооза. Пу хараагызын соол партыр. Парып хысхызына азыхха палых тимнеп саларга кирек. Хын-чатхан ползанъ, айланыста алахтыр салгайбын за», – тiпче Айдолай. Ур дее полбан. Аалданъ колзер чон хайзы ханъаалыг, хайзы чаланъ, iди ле субалысча. Айдолайны суре чидiп, иртiбiзедiрлер. Кол хазына кил-зелер, колнiнъ хыри даа хыймырабаан. Корзелер, чолча Айдолай иртiп парир, кiзее дее корбинче [Хакасские народные сказки, 1986. С. 112].
«Только я сейчас тороплюсь. Красное озеро, что в трех километрах от твоей юрты, за ночь высохло, я спешу рыбу собрать, на зиму запас сделать. Вот на обратном пути я тебя обману, если захочешь», – ответил Полнолуние. Немного времени прошло. Из улуса по дороге к озеру поскакали всадники, помчались подводы. Обогнали Полнолуние. Не поймут ничего: озеро как было, так и есть. Смотрят, а Полнолуние по дороге мимо едет, ни на кого не смотрит [Там же. С. 37].
Лексико-грамматический анализ номинации позволяет выделить в ней следующие элементы: ай ‘луна’ + корень тол (от глагола толарга ‘наполняться’) + словообразовательный аффикс монгольского происхождения -ай . При стяжении двух основ ( ай + толай ) наблюдается ассимиляция согласных, т. е. уподобление последующего согласного предыдущему (позиционное озвончение глухого согласного т : айдолай ) [Грамматика хакасского языка, 1975. С. 75].
В приведенном фрагменте дескрипция Айдолай используется как конкретно-референтный антропоним. Однако по своему первичному статусу она может быть признана элементом одной из предикатных дескрипций, входящих в структуру повествования: ол, хайзы ай толы-зына тореен ≈ ‘тот, который родился в полную луну’. Возможная реконструкция показывает, что в ходе ономастического генезиса данная дескрипция становится идентифицирующей, полностью переходя в позицию актанта. Впоследствии она редуцируется до словосочетания ай толызына ‘в полную луну’, затем принимающего форму композита.
В результате такого преобразования отглагольное существительное Айдолай, сохраняя первичное значение, получает референцию к человеку, а не только ко времени его рождения. В тексте данная ИС-дескрипция реализуется наряду с другими, не поменявшими своего пре- дикатного статуса: мал хадарчанъ кiзi полтыр ≈ ‘тот, который был пастухом’; прай пайларны алахтырча ≈ ‘тот, который обманывает всех богачей’; чабал адычахтыг полган ≈ ‘тот, который имел жалкую лошадь’ и т. д. А также с гетерономинативными единицами, занимающими позицию актанта, например: «Эй, чабал пора талбахтых чой!» – ‘«Эй ты, врун на сивой кляче!»’ [Хакасские народные сказки, 1986. С. 112].
Неметонимическая дескрипция чабал пора талбахтых чой ‘врун на сивой кляче’ сохраняет статус функционального имени в локальном тексте, поскольку называет временные признаки, характеризующие референт «здесь-и-сейчас». В отличие от нее дескрипция Айдолай становится постоянным именем референта, поскольку, метонимически называя ключевую, ассоциируемую с ним деталь, дает константную характеристику субъекта. Дескрипция Айдо-лай в качестве ИС содержит конечную интерпретанту, что позволяет ему функционировать во всех видах коммуникации.
Выбор признака, выраженного предикатной группой ай толызына тореен ‘был рожден в полную луну’, обусловлен спецификой хакаской лингвокультуры. Почитание Луны входило в число традиций, по-видимому, связанных с тюркским календарем, в частности с сакральным характером лунных фаз, названия которых были закреплены в языке. «Единицей измерения месяца служило время между двумя новолуниями. Месяц делился на два периода: «новая луна» и «старая луна». На четырнадцатый день, когда луна появлялась полностью, называли ее «ак толы» – белое полнолуние. Пятнадцатый день назывался «кызыл толы» – красное полнолуние» [Безертинов, 2012].
Таким образом, ИС Айдолай демонстрирует метонимический перенос, при котором одно из календарных событий, связанных с судьбой референта (луна, находящаяся в определенной фазе в момент рождения человека), становится важнейшей характеристикой референта, а описывающая это событие дескрипция – его именем.
При этом значимость лунного культа позволяет выделить у антропонима еще и метафорический компонент. Благодаря уподоблению субъекта полной Луне его имя приобретает коннотативное значение ‘быть полным энергии, сил и т. п.’.
Проведенный анализ ИС, сформированных в результате переноса апеллятива с одного класса объектов на другой на основе ассоциации по смежности, выявляет сложную диалектику преобразования метонимической дескрипции в антропоним. Такой процесс раскрывается в последовательной смене именем, соотносимым со взаимно сополагаемыми и разграничиваемыми денотатами, нереферентного и референтного употреблений. Метонимическое ИС получает референтное употребление как элемент определенной дескрипции, которая идентична по лексическому составу деривационно предшествующей ей предикатной и вместе с тем отличается от нее как семантически, так и прагматически и синтаксически.
Переходя в позицию актанта и становясь вследствие эллипсиса самостоятельной ИС-дескрипцией, метонимическое имя получает кроме актуального денотата коннотативный и сигнификативный компоненты значения.
Список литературы Формирование метонимического имени собственного в эпическом дискурсе
- Арутюнова Н. Д. Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1990. С. 411-412.
- Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. 2-е изд., испр. и доп. М.: Языки русской культуры, 1999. 896 с.
- Безертинов Р. Тюркский календарь. URL: http://www.mtss.ru/forum/ (дата обращения 05.09.2011).
- Бутанаев В. Я. Степные законы Хонгорая. Абакан, 2004. 120 с.
- Грамматика хакасского языка / Под ред. Н. А. Баскакова. М.: Наука, 1975. 418 c.
- Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М.: Наука, 1985. 262 с.
- Рассел Б. Философия логического атомизма. Томск: Изд-во «Водолей», 1999. 192 с.
- Уайтхед А. Избранные работы по философии: Пер. с англ. / Сост. И. Т. Касавин; общ. ред. и вступ. ст. М. А. Киселя. М.: Прогресс, 1990. 590 с.
- Субракова О. В. Язык героического эпоса. Абакан, 2007. 164 с.
- Трояков П. А. Хакасские мифы и легенды. Абакан, 1990. 200 с. (на хакас. яз.)
- Хакасские народные сказки / Сост. В. И. Доможаков. Абакан, 1986. 144 с. (на хакас. яз.)