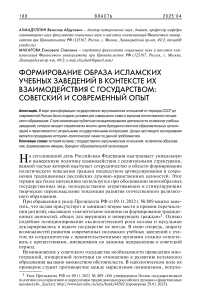Формирование образа исламских учебных заведений в контексте их взаимодействия с государством: советский и современный опыт
Автор: Ахмадуллин В.А., Макарова Е.О.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 4 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
В ходе трансформации государственно-мусульманских отношений от периода СССР до современной России были созданы условия для совершенно нового звучания отечественного исламского образования. Стало возможным публичное позиционирование деятельности исламских учебных заведений, которое находит отражение во многих целях брендинга светских образовательных организаций и перекликается с актуальными государственными интересами. Целью настоящего исследования является проведение историко-политической линии по данной проблематике.
История ислама, государственно-мусульманские отношения, исламское образование, формирование имиджа, брендинг образовательной организации
Короткий адрес: https://sciup.org/170211070
IDR: 170211070
Текст научной статьи Формирование образа исламских учебных заведений в контексте их взаимодействия с государством: советский и современный опыт
Н а сегодняшний день Российская Федерация выстраивает уникальную и выверенную политику взаимодействия с религиозными структурами, важной частью которой выступает сотрудничество в области формирования политического поведения граждан посредством артикулирования и сохранения традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Этот термин все более интенсивно используется при обосновании многообразных государственных мер, непосредственно затрагивающих и стимулирующих творческое переосмысление тенденции развития отечественного религиозного образования.
При обращении к указу Президента РФ от 09.11.2022 г. № 809 можно заметить, что ислам присутствует и занимает второе место в прямом перечислении религий, оказавших «значительное влияние на формирование традиционных ценностей, общих для верующих и неверующих граждан»1. Однако подобное позиционирование аксиологической роли ислама и мусульман декларировалось в нашем государстве не всегда. В свою очередь, широту возможностей развития современных исламских учебных заведений с учетом их сотрудничества с правительственными органами сложно сопоставить с препятствиями, имевшимися по данному направлению в советский период.
Возникновение у советского государства необходимости проведения многогранной, изощренной политики по отношению к развитию исламского образования вызвано множеством обстоятельств. В идеологическом поле их примером служит противоречие между марксизмом-ленинизмом, популя- ризация и защита которого предусматривала снижение роли религиозных институтов, с одной стороны, и учет наличия на территории страны мусульман, их вклада в развитие советского общества (в т.ч. в победу в Великой Отечественной войне), их запроса на религиозное образование и необходимости налаживания международных контактов и достижения иных стратегически значимых целей – с другой. Лавирование между указанными интересами неоднократно приводило к необычным заявлениям и действиям, которые удалось подвергнуть основательной проверке уже после рассекречивания и введения в научный оборот ряда архивных документов.
Сообразованная с политико-идеологическими трендами начала существования СССР всесторонняя маргинализация религиозных, в т.ч. исламских, институтов предопределяла возможность сохранения исламского образования исключительно в подпольном состоянии. Первый существенный шаг в развитии исламского образования в СССР обозначился лишь в ходе последнего периода Великой Отечественной войны. В 1944 г. Народный комиссариат государственной безопасности СССР разработал комплекс мероприятий по переводу исламского образования из подпольного состояния в легальное. Однако на практике реализация данных мероприятий не была синонимична широкому распространению легального исламского образования.
Инициаторы создания медресе неоднократно сталкивались с административными трудностями, замедлявшими открытие новых исламских учебных заведений. В данном отношении показательны следующие примеры. Во-первых, правительство СССР 15 августа 1949 г. отменило распоряжение СНК СССР от 10 октября 1945 г. № 14808 об открытии медресе в г. Ташкенте1. Во-вторых, имелись реальные проблемы с открытием медресе в г. Баку в конце 1940-х гг., несмотря на формальное наличие распоряжения СМ СССР № 19447-рс от 30 декабря 1947 г., а также дальнейшие трудности для старта его деятельности2. В итоге данное медресе открылось лишь незадолго до распада СССР. В-третьих, органы власти рекомендовали Духовному управлению мусульман Северного Кавказа в 1949 г. отказаться от идеи открыть медресе в г. Буйнакске3. В-четвертых, не было реализовано предложение 1956 г. по открытию медресе в г. Уфе4. Опорной точкой аргументации при торможении подобных инициатив часто служил недобор студентов, важной причиной которого можно считать работу партийно-государственного аппарата СССР [Ахмадуллин 2013: 123].
Как результат, в советский период относительной непрерывностью работы отличалось только медресе Мир-Араб в г. Бухаре. Тем не менее в публичном поле данный факт иногда намеренно умалчивался, что демонстрируют некоторые выступления перед иностранцами председателя Совета по делам религиозных культов при Совете министров СССР И.В. Полянского и заместителя председателя Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана М-Х. Салихова5.
Подобная модель взаимодействия характеризовалась усиленным контролем со стороны партийно-государственного аппарата за развитием исламского образования, и этот контроль выстраивался с учетом необходимости балансирования между конфликтующими интересами сохранения полити- ческой идеологии и международного престижа страны. Сокрытие реальных обстоятельств развития медресе способствовало по большей части формированию позитивного имиджа исламского образования вовне, но не внутри страны.
Шаги к содержательному изменению описанной модели можно зафиксировать с конца 1980-х гг. Этот период рассматривается как «период эмоционального религиозного подъема, активного возвращения после 80-летнего атеизма религиозных ценностей… государство в этот период занимало позицию постороннего наблюдателя, особо не выстраивая внятной политики в сфере государственно-конфессиональных отношений» [История ислама... 2022: 239]. Ослабление правительственной хватки в работе, связанной с контролем над развитием религиозных институтов, привело к двойственному результату.
На первый взгляд, частичное отстранение от создания ограничений позволило более свободно и интенсивно открывать новые религиозные учебные заведения. Но наряду с ними стали приобретать влияние учреждения, имевшие финансовую зависимость от зарубежных благотворителей и участвовавшие в продвижении радикальной псевдоисламской повестки. В конечном счете, «некоторые из тех, кто вследствие недостаточно высокого уровня местных религиозных учебных заведений обучался за рубежом, оказались заражены экстремистскими, социально опасными идеями, что привело к конфликту внутри самого мусульманского общества» [Ярлыкапов 2003: 6]. Данные условия оставили негативный след в формировании имиджа исламских учебных заведений.
Важным этапом в развитии собственной российской системы исламского образования стал период, начинающийся с конца 1990-х гг. Для него характерно появление исламских высших учебных заведений, таких как Российский исламский институт в г. Казани, Московский исламский институт, Российский исламский университет в г. Уфе, Дагестанский теологический институт им. Саида Афанди, Российский исламский университет им. Кунта-Хаджи в г. Грозном. Особого внимания заслуживает открытие в 2017 г. Болгарской исламской академии в Татарстане, что, безусловно, стало одним из итогов встречи президента РФ В.В. Путина с муфтиями духовных управлений мусульман России 22 октября 2013 г., где руководитель страны заявил: «…одна из важнейших задач – воссоздание собственной исламской богословской школы, которая обеспечит суверенитет российского духовного пространства и, что принципиально важно, будет признана большинством мусульманских ученых мира. Эта школа должна откликаться на самые актуальные события и в России, и в мире в целом, давать свои оценки, которые будут понятными и авторитетными для верующих»1. Характерна также активизация работы медресе, имеющихся сегодня в г. Москве, г. Казани, Республике Татарстан, Республике Дагестан, Республике Ингушетия и др. Положено начало последовательному встраиванию исламских учебных заведений в систему взаимовыгодного сотрудничества с государственными структурами, приобретающего все большую актуальность в текущих турбулентных геополитических и экономических реалиях. На данный момент исламское образование «переживает период стабилизации после резкого подъема в
90-х гг. прошлого века, и это диктует необходимость дальнейшего изучения тенденций его развития с учетом возрастающего влияния государства на эти процессы» [Муртазин 2019].
Если в советский период само создание религиозных учебных заведений было труднодостижимым результатом, то сегодня вероятна постановка вопроса и об открытии, и комплексном развитии таких учреждений, в т.ч. через использование богатого арсенала современных инструментов образовательного брендинга.
К сожалению, последнее указанное направление на текущий момент имеет недостаточную проработку с научно-теоретической точки зрения. Вместе с тем меры по формированию бренда религиозных учебных заведений широко реализуются. И многие цели, предопределяющие их осуществление, резонируют с целями, имеющимися у светских учебных заведений. Среди них можно выделить:
-
– привлечение аудитории для освоения образовательных программ;
-
– привлечение квалифицированных кадров;
-
– освещение достижений в научной, культурной и иных аддитивных сферах деятельности организации;
-
– повышение конкурентоспособности отдельного учреждения на рынке образовательных услуг;
-
– придание учебному заведению «индивидуальности, запоминающегося образа, который бы выделял его среди других» [Лобышева 2008: 59];
-
– создание условий для взаимодействия с партнерами и бизнесом, для фандрайзинга [Квочкина 2015: 165];
-
– выстраивание доверительных отношений с государством ( GR ) и обществом ( PR ).
Применительно к исламским учебным заведениям специфическими целями образовательного брендинга также являются:
-
– формирование позитивного образа ислама и мусульман;
-
– противодействие «деструктивным религиозным и религиозно-политическим технологиям», от которых граждане не полностью защищены «в силу низкой информированности в религиозной области» [Кашаф 2016: 22];
-
– участие в формировании исторической памяти;
-
– участие в сохранении традиционных ценностей ислама;
-
– освещение отдельных сторон жизни мусульманского сообщества, включая его вклад в развитие страны;
-
– повышение эффективности контактов с уммой как внутри, так и за пределами РФ;
-
– участие в обеспечении конкурентоспособности отечественного исламского образования, под которой понимается «создание возможной альтернативы зарубежным исламским вузам, а также восстановление и развитие российской исламской богословской школы» [Измайлов 2016: 15];
-
– повышение авторитета учреждения, в т.ч. в сфере толкования религиозных норм и лоббирования эффективных решений (например, внедрение исламского банкинга), и др.
Интенсивное развитие технологий и средств связи сделало доступным для исламских образовательных учреждений трансляцию бренда через целый спектр каналов, относимых к новейшим СМИ (официальные сайты исламских учебных заведений, сайты новостных агентств, иные платформы, работающие в сочетании с контекстной рекламой, социальные сети и др.). Они дополняют традиционные СМИ в виде печатных изданий и новые СМИ в виде теле- и радиовещания, в ряде случаев позволяя получать обратную связь с аудиторией.
Ранее указанным целям брендинга соответствуют свои каналы связи. Так, например, в привлечении абитуриентов особенно важную роль играют официальный сайт высшего учебного заведения и его каналы в социальных сетях. Анализ каналов ранее перечисленных исламских вузов показывает, что к разработке их дизайна и наполнения сегодня привлекаются немалые усилия и средства. Это возможно рассматривать в качестве одного из составных признаков расцвета отечественного исламского образования и его освещения в рядах общественности.
Имея в виду вышесказанное, необходимо сделать ряд важных выводов по проблематике настоящего исследования.
Во-первых, очевидна принципиальная разница между возможностями формирования образа исламских учебных заведений в советский период и в современной России. На генерацию этого контраста прямое влияние оказало изменение модели взаимодействия между государством и исламским образованием, что, в свою очередь, в существенной мере обусловлено внутригосударственными политико-идеологическими трансформациями.
Во-вторых, актуальные перспективы углубления сотрудничества государственных структур и исламских учебных заведений подкреплены пулом обстоятельств. К ним необходимо отнести:
-
– акцентуацию особого цивилизационного пути России, связанного с защитой традиционных ценностей, межрелигиозного и межнационального единства российского народа (о данном процессе свидетельствуют не только правовые документы, но и внедряемые и обновляемые учебные курсы, такие как «Основы российской государственности» и «История религий России»);
-
– актуализацию мер по противодействию попыткам деструктивного информационного влияния, часть которых представляет собой публикацию материалов «с вымышленными историческими и потенциальными проблемами, сеющими среди представителей разных конфессий и национальностей сомнение в целесообразности жить в мире и согласии» [Макарова 2024: 88];
-
– необходимость усиления патриотической работы на фоне компликации международной ситуации, связанной, в частности, с проведением специальной военной операции;
– важность противостояния животрепещущим угрозам терроризма, прикрывающегося религиозными исламскими нормами, и др.
Укрепление сотрудничества с государством, как свидетельствует приведенный в исследовании исторический опыт, играет решающую роль в развитии исламских учебных заведений и формировании их образа.
В-третьих, на текущий день научные и практические разработки в области образовательного брендинга имеют внушительные перспективы внедрения в деятельность структурных подразделений и отдельных сотрудников исламских образовательных организаций, связанную с организацией внешних коммуникаций. Применительно к рассматриваемым учреждениям отслеживание особенностей и потребностей целевой аудитории через социологические исследования выступает эффективным средством реализации общих и специфических целей образовательного брендинга. Интересным вариантом для проведения такого мониторинга является заказ научно-исследовательских работ, выполняемых в высших учебных заведениях на безвозмездной основе (примером данного формата является создание временных творческих студенческих коллективов в Финансовом университете при Правительстве РФ).