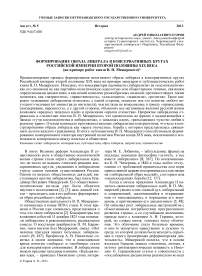Формирование образа либерала в консервативных кругах Российской империи второй половины XIX века (на примере работ князя В. П. Мещерского)
Автор: Егоров Андрей Николаевич
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 5 (134), 2013 года.
Бесплатный доступ
Проанализирован процесс формирования негативного образа либерала в консервативных кругах Российской империи второй половины XIX века на примере мемуаров и публицистических работ князя В. П. Мещерского. Показано, что консерваторы оценивали «либерализм» (и «космополитизм» как его синоним) не как партийно-политическую идеологию или общественное течение, связанное определенными ценностями, а как некий комплекс разнообразных явлений, противостоящих таким понятиям, как «патриотизм», «нравственность», «классицизм», «идеализм», «религия». Такое широкое толкование либерализма позволяло, с одной стороны, подвести под это понятие любого неугодного человека (от министра до нигилиста), чьи взгляды не вписывались в триаду «православие, самодержавие, народность», а с другой стороны, объяснить все негативные явления русской жизни влиянием «вредных западных идей» и происками «врагов отечества». Неприятие либерализма отражалось в стилистике текстов В. П. Мещерского, что проявлялось во фразах о надвигающейся с Запада «тучи космополитизма и либерализма», о западных идеях, «разъедающих чувство любви к родному краю». Отсюда возникало противопоставление либерализма и патриотизма, что вело к конструированию образа либерала как «врага отечества», борьба с которым представлялась священным долгом каждого гражданина. В итоге публицистика В. П. Мещерского способствовала формированию консервативного вектора внутренней политики России конца XIX века, исключавшего возможность компромисса между властью и обществом.
Либерализм, консерватизм, публицистика, образ либерала, патриотизм, чиновничество
Короткий адрес: https://sciup.org/14750461
IDR: 14750461 | УДК: 94(47).081
Текст научной статьи Формирование образа либерала в консервативных кругах Российской империи второй половины XIX века (на примере работ князя В. П. Мещерского)
В эпоху Великих реформ Александра II существенную роль в общественно-политической жизни страны стали играть либеральные идеи, что не могло не вызвать ответной реакции консервативных кругов, увидевших в либерализме угрозу самим основам существования России. Одним из видных общественных деятелей, выступивших против либерализма, был князь Владимир Петрович Мещерский. Его общественнополитические взгляды уже были объектом научного исследования [1], [3]; цель данной статьи – проследить, как в его работах формировался образ российского либерала.
Общественная деятельность В. П. Мещерского начиналась в конце 1850-х годов. К тому времени в России уже сложились представления о том, что такое либерализм [2]. Консерваторы под влиянием событий 14 декабря 1825 года понимали либерализм в революционном, радикальном смысле. О восстании декабристов Н. М. Карамзин, чьим внуком был Мещерский, писал: «Вот нелепая трагедия наших безумных либерали-стов!» [9; 467]. Профессор А. В. Никитенко отмечал в своем дневнике, что в николаевское время понятия «либерал» и «якобинец» стали для консерваторов синонимами. В либерализме видели вредные западные влияния. «Каждая новая идея, – приводил Никитенко слова литера
тора М. Е. Лобанова, – заблуждение; французы подлецы; немецкая философия глупость, а все вместе либерализм» [8; 367]. По воспоминаниям Б. Н. Чичерина, в 1840-е годы любое отступление от требований правительства или норм православной церкви воспринималось как намек на «либеральный образ мыслей», с которым шла «немилосердная» борьба [12; 157].
Когда в начале правления Александра II началось оживление либеральных идей, В. П. Мещерский увидел в них «новый дух, либеральный и современный, заключавшийся в открещива-нии от николаевщины, в порицании его военщины, в критиковании его дисциплины» [5; 48]. Он связывал рост либеральных настроений не с объективными потребностями прогрессивного развития страны, а со случайными явлениями, прежде всего с влиянием А. И. Герцена, который, по словам князя, «основал эпоху обличения. Это обличение стало болезнью времени, и оно-то испортило нравственно и духовно ту среду, из которой должна была исходить серьезная и строго проверенная реформаторская деятельность». Мещерский полагал, что в основе взглядов Герцена лежала «мелочная, личная, а потому антипатриотическая ненависть к Николаю I». Герценовские статьи в совокупности с «послаблением дисциплины решительно во всех слоях общества» привели к тому, что «умы постепенно начинали выходить из-под опеки старых преданий и переходить в новую область какого-то стремления к чему-то новому, каких-то сетований на прошлое и каких-то претензий к настоящему». Политические разговоры стали носить «характер злобы, желчи, политического недовольства»; в кругах интеллигенции «шла умственная работа обличительная и даже раздраженная против порядка вещей» [5; 97].
Не сумев адекватно оценить причины распространения либеральных идей, В. П. Мещерский посчитал, что вся проблема заключалась в падении дисциплины во всех сферах жизни общества: «Мы жили тогда (в начале 1860-х годов. – А. Е. ) в какой-то мягкой атмосфере уступчивости и слабости относительно всего, что было принципом порядка и дисциплины. Эта-то мягкость, эта-то терпимость всего, что проявляло дух послабления дисциплины, составляли один из главных признаков политического либерализма» [5; 153]. Связывая падение дисциплины с деятельностью реформаторских кругов, князь видел либерала в любом администраторе, выступавшем за обновление страны. Чиновник, писал он, «прежде всего, либерален», но «либерализм его вредного свойства тем, что он одинаково пренебрегает интересами той власти, которой он служит и от которой получает жалование, и интересами народа, для удовлетворения которых он служит… пренебрежение к интересам власти в нем проявляется как культ либерализма, а пренебрежение к интересам народа – как культ бездушного эгоизма» [5; 548].
Исходя из таких представлений В. П. Мещерский создал в своих работах целую серию негативных образов либеральных чиновников. Так, генерал-адъютанта Я. И. Ростовцева, сыгравшего существенную роль в разработке крестьянской реформы, он охарактеризовал как человека, не имеющего убеждений и нравственной стойкости, предавшего «своего монарха и благодетеля», оказавшегося одним из главных «поклонников Герцена». Опасения Ростовцева «прослыть отсталым, прослыть на страницах герценских обличений николаевцем и было причиной, почему не было принято никаких серьезных мер против распространения влияния Герцена», и в результате «либерализм в высших специальных военных школах не получил должного отпора в начальстве» [5; 48].
Видный деятель эпохи Великих реформ, министр народного просвещения в 1861–1866 годах А. В. Головнин, по словам В. П. Мещерского, являлся «главным вдохновителем крайних либеральных тенденций», «растлевал нравственность будущей России… готовил из молодежи будущих деятелей революции в России, основанной на низложении всех авторитетов, начиная с божественного» [5; 293]. Мещерский пола- гал, что «во имя культа к либеральному Западу» реформаторы проводили политику «попустительства решительно во всем, где сталкивался какой-нибудь представитель элемента либерализма и даже самоволия с элементом правительственной власти» [5; 155].
Красной нитью в работах В. П. Мещерского проводилась мысль о непрофессионализме либералов. Видного деятеля судебной реформы С. И. Зарудного, математика по образованию, князь называет туристом-дилетантом, нахватавшимся в зарубежных поездках западных правовых идей. «…Главное, что составляло таинственную прелесть Зарудного в то время, – писал Мещерский, – было его фантастическое обожание к иностранным судебным порядкам и полное презрение к русским порядкам, а обожание иностранных порядков, в свою очередь, происходило от мысли, что они проникнуты либерализмом» [5; 193].
В. П. Мещерский даже мысли не допускал о благотворном характере тех или иных либеральных преобразований. Поэтому в каждом действии либералов он видел коварный умысел, направленный против России. Так, инициаторы отмены крепостного права, стремясь «как можно глубже поразить дворянство», заботились не об интересах «порядка и правительства», а о том, «достаточно ли отняли у дворян земли, достаточно ли пошатнуто дворянство земельное в своих устоях и в своих основах, достаточно ли создано для него критическое и трудное положение?» [5; 105]. Приписывая идеи дворянофобии либеральным чиновникам, Мещерский представлял их главными врагами дворянства как сословия. Далее ставился знак равенства между понятиями «поместное дворянство», «самодержавие», «Россия», а либералы превращались во врагов русского народа, подрывающих патриотические ценности. В своих работах Мещерский использовал выражения «либеральный космополитизм», «партия космополитов», «антирусская политическая партия», «партия петербургских либералов, то есть чиновников и космополитов» и т. п. Олицетворением этой партии для него служили в 1860–70-х годах П. А. Валуев и П. А. Шувалов. По убеждению Мещерского, именно благодаря проискам и козням этих двух сановников попирались русские интересы на окраинах, а внутри России реформы всячески искажались и вместо усиления национальнорусского начала приводили к распространению чуждого, западнического духа.
Когда с 1861 года вместо винных откупов стала вводиться акцизная система продажи спиртного, В. П. Мещерский увидел в этом коварный замысел либералов – «соблазнить мужика дешевою водкою и затем его споить». Основанием для подобных утверждений была всего лишь шутливая фраза акцизного чиновника Огрицко о том, что в ходе проведения реформы он едет к донским казакам «учить их, как спаиваться». Зацепившись за эту фразу, князь стал рассуждать: «…как никого не беспокоил ни этот курьез, ни осуществление замысла соединить освобождение крестьян с питейною реформою… Точно какая-то таинственная сила спешила, не теряя ни одной минуты, создать для народа роковое искушение, а для правительства угрожающее положение» [5; 152]. Идеи Мещерского о «тайных врагах порядка и правительства» трансформируются в начале ХХ века в широко распространенную в консервативных кругах теорию «жидомасонского заговора».
В представлении В. П. Мещерского петербургские чиновники являлись «первой армией либералов». Ко «второй армии либералов» он относил прогрессивную печать во главе с «Голосом» А. А. Краевского и земских деятелей. В этих кругах «всякая консервативная мысль вызывала нервные судороги отвращения, а всякая либеральная идея – до конституции включительно, и даже до республики – находила массу лабораторий в человеческих мозгах и массу лаборантов между людьми всех возрастов и всех положений» [5; 369]. В земствах либералов, по мнению князя, интересовало не ведение народного хозяйства, а возможность через представительные органы прийти к конституции. Стремление ряда общественных деятелей ввести центральное земство он оценивал как проявление «с одной стороны полного презрения к местным нуждам России, а с другой стороны – непростительное ребячество, побуждавшее серьезных, по-видимому, людей добиваться не пользы народной или общественной, а исключительно либеральных игрушек» [5; 252].
В. П. Мещерский всячески подчеркивал несоответствие либеральных ценностей и русской жизни. Так, рассуждая о проектах ограничения власти губернаторов местными коллегиальными учреждениями, он утверждал: «…такие взгляды не потому ложны, что они либеральны, но потому, что они практически, то есть жизненно, безусловно, неверны» [5; 671]. Принцип разделения властей князь называл «практически непригодным» из-за возможной вражды и противодействия между различными властными институтами.
Ядром политической доктрины В. П. Мещерского была идея самодержавия. Отсюда вытекала его крайне негативная оценка «излишков либерализма», введенных судебной реформой 1864 года. Он с возмущением передавал слова министра юстиции Д. Н. Замятина Александру II о том, что «Государь не имеет права без суда увольнять судебных чинов от должности». Неприятие у князя вызывал и принцип всесос-ловности судебных учреждений. Он возмущался тем, что мировые судьи, приглашая к себе генералов и сановников, «позволяли себе их заставлять сидеть на скамьях вместе с их лакея- ми». В этом он видел «умышленно либеральный образ действий», проявление неуважения к знатным лицам. То, что в либеральной системе ценностей является естественным (принципы несменяемости судей, равенства всех перед законом), сторонникам самодержавия казалось покушением на сами основы существования России. Характерны рассуждения Мещерского по поводу судебной реформы: «…уже с самого начала введения новых судебных учреждений я не мог понять, как можно было восхищаться таким нововведением, как суд присяжных, подходившим к русской жизни, как к корове седло; с самого начала я находил крайне несимпатичным тот дух либерализма, который побуждал судебное ведомство с отправлением правосудия соединить какую-то политическую и социальную пропаганду насчет равенства и в то же время неуважения к разным преданиям власти и социальных отличий» [5; 350].
Идеологическое неприятие либерализма оказывало определяющее влияние на конструирование образа конкретных лиц, с которыми доводилось общаться В. П. Мещерскому. Так, умеренному либералу А. В. Никитенко он давал следующую характеристику: «Слушая этого умного человека, всегда говорившего зло и насмешливо решительно о каждом и решительно обо всем, я в то время испытывал только антипатичное к нему чувство. Задавал себе наивный вопрос: неужели в эту душу никогда не входило доброе впечатление, неужели никогда из этой души не исходит мысль, согретая сердцем?» [5; 99]. Разумеется, носители либеральных ценностей должны были даже чисто внешне вызывать неприятие. Так, А. В . Головнину князь давал такую характеристику: «Глядя на его маленькую, неуклюжую и нестройную фигуру, с несоразмерною туловищу головою и с лицом, где читались сухость и что-то неприветливое, все спрашивали про Головнина: да имеет ли этот человек довольно сердца, чтобы любить учащуюся молодежь» [5; 191].
Связывая все негативные явления в бюрократической среде с пагубным влиянием либеральных идей, В. П. Мещерский наклеивал ярлык либерала на тех чиновников, которые никогда ими не являлись. Например, с 1868 по 1882 год главой Земского отдела МВД был Ф. Л. Барыков, пользовавшийся в столичном обществе скандальной личной репутацией как организатор каких-то диких оргий, циник и сочинитель сатирических стишков. Являвшийся классическим чиновником без убеждений, он «пересидел» четырех министров. В глазах Мещерского Барыков – «европейский архилиберал», один из наиболее «красных» чиновников, ненавидевший дворянина-помещика, «все старые политические предания», говоривший «с остроумием и цинизмом без малейшего стеснения о своих принципах заведования тогда крестьянским делом в ар- хикрасном направлении» [5; 362]. Современные исследователи не нашли в деятельности Барыкова и возглавляемого им Земского отдела никаких принципиальных инициатив, расходившихся с мнением вышестоящего руководства [10; 201].
Воспитанный на идеалах эпохи Николая I, идеалах дисциплины, порядка, культа власти, В. П. Мещерский полагал, что для спасения России нужно только одно – «твердая строгость со всеми и во всем» [5; 549]. В малейших симпатиях к свободе человеческой личности он видел зародыши ненавистного ему либерализма. Характерно его отношение к писателю А. К. Толстому, не примыкавшему к либеральному лагерю. Мещерский подчеркивал «полную невозможность» примирить свои убеждения с мировоззрением Толстого, поскольку для последнего «главною духовною стихиею была свобода… и в этом культе свободы он, когда переходил на почву практическую, самым искренним и теплым образом предпочитал многое на Западе Европы многому русскому только потому, что там находил больше уважения к свободе, чем у нас» [5; 204]. Поэтому Толстой «при всей своей оригинальности скорее клонится к либералам, чем в нашу сторону». Отсюда, делал вывод Мещерский, вытекает главный недостаток Толстого – «затаенное недружелюбие к русскому существу» [5; 376, 677].
Неприятие либерализма сквозило в самой стилистике текстов В. П. Мещерского, что проявлялось во фразах о надвигающейся с Запада «тучи космополитизма и либерализма», о западных идеях, «разъедающих чувство любви к родному краю» [5; 732]. Отсюда возникало противопоставление либерализма и патриотизма, что вело к конструированию образа либерала как «врага отечества», борьба с которым представлялась священным долгом каждого гражданина. Эта идея Мещерского рассматривается в качестве основной в его публицистике современными консерваторами, назвавшими сборник избранных статей князя «За великую Россию. Против либерализма» [7].
В. П. Мещерский полагал, что революционные, нигилистические идеи возникают вследствие либеральных уступок во всех сферах жизни общества. «Непостижимая ненаходчивость всего учебного начальства дала ребяческим шалостям студентов развернуться в целую политическую революцию. Все это только потому, что в начале не нашлось ни одного энергичного и умного человека, который взялся бы весь этот мятеж затушить в корне» [5; 124]. Отсюда следовала и простая идея борьбы с революционными настроениями – строгая дисциплина и порядок, которая должна проводиться людьми твердых монархических убеждений, а не «либеральной» профессурой.
Либеральную критику власти Мещерский рассматривал как антиправительственную деятельность, по многим параметрам соприкасавшуюся с революционной пропагандой. Князь не обвинял либералов в содействии революционному террору, но он полагал, что революционное движение в целом пользуется сочувствием и поддержкой «крайних либералов, фигурировавших тогда и между правительственными чиновниками, отчасти в той массе равнодушных интеллигентных людей, которые это равнодушие проявляли столько же в деле отстаивания правительственных интересов, сколько в деле противодействия всякой противоправительственной агитации» [5; 536]. В Великих реформах Мещерский увидел лишь безвластие и беспорядок, которые привели к распущенности и падению дисциплины, следствием чего и стал рост революционных настроений с закономерным итогом – убийство Александра II.
В представлении В. П. Мещерского «либерализм» (и «космополитизм» как его синоним) – это не партийно-политическая идеология, не общественное течение, связанное определенными ценностями, а некий комплекс разнообразных явлений, противостоящих таким понятиям, как «патриотизм», «нравственность», «классицизм», «идеализм», «религия» [6; 153]. Такое широкое толкование либерализма позволяло, с одной стороны, подвести под это понятие любого неугодного человека (от министра до нигилиста), чьи взгляды не вписывались в триаду «православие, самодержавие, народность», а с другой стороны, объяснить все негативные явления русской жизни влиянием «вредных западных идей» и происками «врагов отечества».
Неудивительно, что такая позиция вызывала неприятие прогрессивных кругов российского общества. Историк М. С. Корелин охарактеризовал ее как квазипатриотизм, мешающий адекватно оценивать общественные явления [11; 259]. А. А. Кизеветтер расценивал публицистику Мещерского как призывы «ату его» по адресу всех сторонников прогрессивных начал [4; 118].
Сконструированный Мещерским и другими консервативными деятелями миф о либералах как «врагах отечества» служил для защиты существующего строя, обоснования благотворности курсов Николая I и Александра III, доказательства ненужности реформ. Каналами распространения образа либерала служили печатные органы, прежде всего «Гражданин», салон Мещерского, его письма Александру III и Николаю II. В итоге не без участия князя два последних российских императора выбрали консервативный вектор внутренней политики, исключавший разумный диалог между властью и обществом и закончившийся революционными потрясениями начала ХХ века.
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 12–01–00249, тема «Образ либерала в Российской империи XIX – начала XX вв.».
Список литературы Формирование образа либерала в консервативных кругах Российской империи второй половины XIX века (на примере работ князя В. П. Мещерского)
- Дронов И. Е. Консервативный проект для России: общественно-политические идеи князя В. П. Мещерского. М.: Изд-во Московского гуманитарного ун-та, 2009. 246 с.
- Калашников М. В. Понятие либерализм в русском общественном сознании XIX века//«Понятия о России»: К исторической семантике имперского периода. Т. 1. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 464-513.
- Карцов А. С. Русский консерватизм второй половины XIX -начала XX в. (князь В. П. Мещерский). СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2004. 418 с.
- Кизеветтер А. А. На рубеже двух столетий: Воспоминания 1881-1914. М.: Искусство, 1996. 396 с.
- Мещерский В. П. Мои воспоминания. М.: Захаров, 2003. 864 с.
- Мещерский В. П. Гражданин консерватор. М.: ИКТНОС, 2005. 304 с.
- Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма. М.: Институт русской цивилизации, 2010. 624 с.
- Никитенко А. В. Записки и дневник: В 3 т. Т. 1. СПб.: Типография А. С. Суворина, 1893. 588 с.
- Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Материалы для биографии. М.: Типография А. И. Мамонтова, 1866. Ч. 2. 505 с.
- Xристофоров И. А. Судьба реформы: Русское крестьянство в правительственной политике до и после отмены крепостного права (1830-1890-е гг.). М.: Собрание, 2011. 368 с.
- Цыганков Д. А. Профессор В. И. Герье и его ученики. М.: Российская политическая энциклопедия, 2010. 503 с.
- Чичерин Б. Н. Воспоминания: В 2 т. Т. 1. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2010. 496 с.