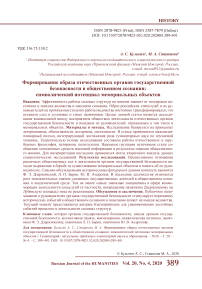Формирование образа отечественных органов государственной безопасности в общественном сознании: символический потенциал мемориальных объектов
Автор: Булыгин Алексей Сергеевич, Сташнева Мария Александровна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4 (52), 2020 года.
Бесплатный доступ
Введение. Эффективность работы силовых структур во многом зависит от поддержки населения и имиджа ведомства в массовом сознании. Образ российских спецслужб и их руководителей на протяжении столетия работы ведомства постоянно трансформировался, что оставило след в установке и сносе памятников. Целью данной статьи является исследование взаимосвязей между восприятием обществом деятельности отечественных органов государственной безопасности и имиджем их руководителей, отраженным в том числе в мемориальных объектах. Материалы и методы. Исследование базируется на принципах детерминизма, объективности, историзма, системности. В статье применяется междисциплинарный подход, интегрирующий достижения ряда гуманитарных наук по изучаемой тематике. Теоретическую основу исследования составили работы отечественных и зарубежных философов, историков, политологов. Важными группами источников стали сообщения электронных средств массовой информации и результаты опросов общественного мнения. Для интерпретации последних применялся метод вторичного анализа данных социологических исследований. Результаты исследования. Неоднозначное отношение различных общественных сил к деятельности органов государственной безопасности находит выражение в борьбе за существование мемориальных объектов в память об их руководителях. Самыми обсуждаемыми историческими фигурами в данном контексте являются Ф. Э. Дзержинский, Л. П. Берия, Ю. В. Андропов. В последние десятилетия отмечается рост положительных оценок указанных государственных деятелей в общественном сознании и академической среде. Тем не менее самые значимые инициативы в сфере коммеморации деятельности спецслужб (в частности, возвращение памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь) пока не реализованы. Обсуждение и заключение. Публичное напоминание о руководителях органов государственной безопасности стимулирует переоценку исторических событий в общественном сознании и позитивно влияет на имидж ведомства. Текущий момент представляется авторам благоприятным для увековечивания достойных событий прошлого в деятельности силовых структур.
История органов государственной безопасности, имидж органов государственной безопасности, коллективная память, коммеморация, символическая политика, памятники ф. э. дзержинскому, памятники л. п. берии, памятники ю. в. андропову
Короткий адрес: https://sciup.org/147218523
IDR: 147218523 | УДК: 316.75:130.2 | DOI: 10.15507/2078-9823.52.020.202004.389-401
Текст научной статьи Формирование образа отечественных органов государственной безопасности в общественном сознании: символический потенциал мемориальных объектов
В современном информационном обществе оценка социумом любой государственной структуры приобретает все большее значение. Хороший имидж обеспечивает популярность среди населения, а значит, поддержку со стороны политиче- ских и экономических сил, плохой – угрожает репутации, уменьшает доступ к властным и финансовым ресурсам и в конечном счете может привести к ликвидации дискредитировавшей себя организации1. На особом счету стоят силовые структуры и специальные службы2, без функци- онирования которых сохранение независимости государства невозможно. Армия, органы правопорядка и государственной безопасности традиционно основываются на прямой поддержке населения – будь то укомплектование воинских частей либо оказание помощи в решении специальных задач оперативно-разыскной деятельности или контрразведки. При этом всегда существует определенная часть общества, у которой деятельность «силовиков» вызывает явный или скрытый протест. Чем больше доля негативно настроенных граждан государства, тем сложнее работать силовым структурам. Формирование положительного образа повышает эффективность их повседневной деятельности.
Среди факторов, влияющих на имидж любого силового ведомства, можно выделить сложившуюся социально-экономическую обстановку и отношение населения к действиям руководства страны в целом; степень участия ведомства в реализации решений высшего руководства государства; освещение работы ведомства средствами массовой информации. Данные обстоятельства очень важны, требуют постоянного внимания и адекватной обратной связи с обществом. Одновременно нельзя забывать и о базисе для формирования имиджа, являющегося фоном при оценке текущих событий населением страны. Это сложившиеся в обществе представления о роли силового ведомства в истории государства и народа.
Общественное сознание оперирует не столько историческими событиями, сколько социальными представлениями о прошлом. Речь идет о коллективной памяти – социально разделяемом культурном знании о прошлом, которое опирается на разные источники и отличается принципиальной неполнотой и избирательностью [6, с. 8]. Возможно, поэтому исторический портрет той или иной государственной структуры формируется прежде всего на основании образа конкретных ее представителей, как правило, руководителей. По справедливому замечанию А. Н. Фортунатова, память создает качественный формат для восприятия окружающего мира, что позволяет использовать ее как духовную опору, которая находится в зоне повседневного опыта, в пространстве житейских переживаний [14, с. 110]. Что касается России, то самые противоречивые чувства населения по отношению к силовым ведомствам вызывают органы государственной безопасности (в настоящее время – Федеральная служба безопасности (ФСБ) России).
Органы госбезопасности советского периода последовательно возглавляли Ф. Э. Дзержинский, В. Р. Менжинский, Г. Г. Ягода, Н. И. Ежов, Л. П. Берия, В. Н. Меркулов, В. С. Абакумов, С. Д. Игнатьев, И. А. Серов, А. Н. Шелепин, В. Е. Семичастный, Ю. В. Андропов, В. В. Федорчук, В. М. Чебриков, В. А. Крючков, В. В. Бакатин, В. В. Иваненко. Очевидно, что более половины из указанных персоналий в настоящее время не имеют достаточно сформированного образа в общественном сознании и известны лишь узкому кругу специалистов. Наименее знакомы населению лица, возглавлявшие отечественные органы безопасности с 1982 по 1991 г., когда частая смена руководителей дополнялась переименованием и реформированием ведомства. Таким образом, на восприятие гражданами России деятельности современной Федеральной службы безопасности значимое влияние оказывает отношение к наиболее ярким представителям системы, оказавшим решающее воздействие на всю ее работу в ХХ в.: Ф. Э. Дзержинскому, Л. П. Берии, Ю. В. Андропову.
Методы
Исследование основано на базовых принципах социально-гуманитарного познания: детерминизма, объективности, историзма, системности. Применение принципа детерминизма позволяет выявить причинно-следственные связи исторических событий и общественных процессов. Принцип научной объективности обеспечивает непредвзятый анализ фактического материала. Принципы историзма и системности используются для рассмотрения предмета исследования – образа органов государственной безопасности в общественном сознании – как сложноорганизованной системы, формирующейся за счет развития и взаимовлияния ее элементов. В статье активно применяется междисциплинарный подход, интегрирующий достижения ряда гуманитарных наук: истории, социологии, культурологии, социальной философии, политологии – по исследуемой тематике. Для сопоставления различных интерпретаций событий истории отечественных спецслужб использованы сравнительный, типологический и синхронный методы. Одним из специфических методов, несмотря на ряд ограничений, стал метод вторичного анализа данных социологических исследований.
Теоретическая основа исследования представлена работами отечественных историков, философов, политологов и зарубежных мыслителей. Важной группой источников, помимо результатов опросов общественного мнения, являются сообщения электронных средств массовой информации.
Результаты
Нельзя забывать, что в период, непосредственно предшествующий распаду СССР, зарубежные информационно-пропагандистские центры сконцентрировали усилия на дискредитации органов безопасности как одной из основ советской власти. Ключевыми элементами западной кампании стали формирование отрицатель- ного образа сотрудника государственной безопасности и широкое тиражирование дезинформации о деятельности Комитета государственной безопасности (КГБ).
Особенно «демонизирован» был образ Лаврентия Берии, и так ставшего, благодаря хрущевской пропаганде, олицетворением репрессий, террора и насилия. Во время борьбы за власть после смерти Сталина Л. П. Берия был обвинен во многих грехах – от шпионажа в пользу разведок западных стран до морально-бытового разложения [8]. Достаточно долго такая точка зрения, активно поддерживаемая иностранными авторами [2]3, фактически монопольно господствовала в общественном сознании [7]. Беглый анализ публикаций о Л. П. Берии (например, в обзоре Национальной библиотеки Республики Марий Эл [4]) показывает, что на волне либеральных настроений последнего десятилетия ХХ в. упрочилось мнение об этом деятеле сталинской эпохи как ужаснейшем монстре и в политической сфере, и в частной жизни.
Только в начале 2000-х гг. начали появляться исследования о позитивных аспектах деятельности Берии. С 1943 г. он курировал советский атомный проект, затем – разработку ракетной техники, в частности, послевоенную систему противовоздушной обороны (ПВО). Инженер-строитель по образованию, Л. П. Берия успешно контролировал строительство сталинских высоток. Серьезными заслугами стали эффективная организация контрразведки и Пограничных войск, выпуск танков и другой специальной техники. Исследователи также признают, что с приходом Берии в 1953 г. к руководству объединенным Министерством внутренних дел СССР началась частичная реабилитация репрессированных ранее лиц. Он выступал инициатором освобождения ряда арестованных военачальников и сотрудников спецслужб [8].
По-прежнему этого политического деятеля обвиняют в организации заградотрядов, причем многими художественными фильмами поддерживается миф о массовых расстрелах отступающих войск. Тем не менее документы дают другую картину: заградотряды возвращали подавляющее число дезертировавших на фронт, а войска Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) принимали непосредственное участие в битвах по защите Москвы [11].
Остается актуальным и обвинение Берии в трагедии депортированных народов. Не оправдывая решения о переселении немцев, чеченцев, ингушей, крымских татар и других народов на восток страны, отметим лишь, что его принимали все члены Государственного комитета обороны. В условиях военного времени эта мера рассматривалась вполне применимой: так, после нападения Японии на США в декабре 1941 г. Америка организовала депортацию около 110 тыс. лиц японского происхождения.
Современный телевизионный журналист Л. Млечин, исследуя биографию и многообразную деятельность Берии, констатирует, что отношение к данной исторической личности как к палачу или эффективному менеджеру зависит от допустимости для каждого конкретного человека жестких методов управления4. В настоящее время все больше исследователей приходят к выводу, что Л. П. Берия – человек своего времени, руководитель сталинского типа, и потому оценивать его надо с учетом реалий той эпохи [9]. В некоторых сегментах общества периодически возникают идеи об увековечении его памяти. В 2016 г. с подобной инициативой выступили в Сургуте местные активисты – члены организации «Русский дух»5, в Пензенской области – представители обкома Коммунистической партии Российской Федерации6. В апреле 2019 г. в социальных сетях разгорелся спор москвичей по тому же вопросу. Инициатор установки памятника Берии, указывая на проведение последним двух широкомасштабных амнистий, прекращение массовых репрессий и руководство созданием атомной бомбы, высказал мнение, что «по нынешним временам Берия считался бы классическим технократом»7. Однако иные общественные силы блокируют возможность возведения подобных мемориалов.
Следует отметить, что борьба за существование памятников является наиболее наглядным отражением неоднозначного и нередко болезненного отношения общества к тем или иным историческим фигурам. Это не случайно – как отмечает А. Тойнби, ментальный аппарат исчезает, а последующим поколениям удобнее производить реконструкцию прошлого по объектам материальной культуры, поскольку они обладают большей способностью к выживанию [13, с. 225]. Установка и снос памятников являются важным элементом стратегии формирования или трансформации народной памяти.
Возвращаясь к Лаврентию Берии: согласно определению военной коллегии Вер- ховного суда России 2002 г., он не подлежит реабилитации как организатор политических репрессий8. Все объекты, названные в честь него, были переименованы с приходом к власти Н. С. Хрущева (имя Берии до этого носили улицы, театры, стадионы, села, поселки, районы по всему Советскому Союзу). Едва ли не единственным материальным памятником этому государственному деятелю в настоящее время является портрет на потолочной фреске вокзального комплекса Екатеринбург-Пассажирский, появившийся там после очередной реконструкции. Изображение Берии среди других организаторов строительства Белоярской атомной станции было «обнаружено» жителями лишь спустя восемь лет9. Похожая ситуация сложилась и с мемориальными сооружениями в память о Генрихе Григорьевиче Ягоде, который также не реабилитирован. До 1937 г. его имя носил Рыбинский машиностроительный завод. В честь заслуг Ягоды по организации лагерных строек был воздвигнут специальный памятник на последнем шлюзе Беломоро-Балтийского канала в виде 30-метровой пятиконечной звезды, внутри которой находился гигантский бронзовый бюст Ягоды. После расстрела наркома мемориальные объекты были уничтожены.
Образ Феликса Эдмундовича Дзержинского в массовом сознании отличается от его ближайших последователей. Умерший в 1926 г., «рыцарь революции» не несет личной ответственности за развязывание крупномасштабных политических репрессий 30–50-х гг. XX в., наиболее болезненно воспринимаемыми обществом. Тем самым он несколько дистанцируется от наиболее негативно оцениваемых периодов деятельности советских органов государственной безопасности и режима в целом.
В советский период фигура Дзержинского была гиперболизирована. В 1930-е гг. сложился его образ как одного из ближайших соратников Ленина, борца с детской беспризорностью, организатора крупных побед в промышленности и на транспорте, родоначальника ВЧК – ОГПУ [1, с. 93]. Именно в этот период сформировался профессиональный портрет подлинного чекиста: верность идеям и идеалам революции, преданность партии, стойкость и неподкупность, восприятие окружающего мира с позиции «белое – черное», «свой – чужой» [12, с. 205–206]. Определенным отражением идеального образа становились и руководители местных чрезвычайных комиссий (ЧК), отличающиеся классовой ненавистью к привилегированным сословиям [12, с. 211], которая, к сожалению, иногда переходила допустимые границы.
Современная оценка государственных деятелей, исповедующих названные выше принципы, не всегда однозначна. Однако Дзержинскому удалось сочетать жесткость с профессионализмом, честностью, порядочностью, личным аскетизмом. Яркий штрих – неприятие бюрократизма и других пороков государственного управления. Совсем недавно широкой публике представлены тексты последних его речей 1926 г., в которых он жестко осуждает «организационный фетишизм», «бесконечную коллегиальность», политиканство и нагромождение бюрократических звеньев [10]. Интересно, что по прошествии почти 100 лет многие мысли выглядят более чем злободневно, что явно поддерживает положительный образ «железного Феликса».
По результатам опроса, проведенного в 2013 г. Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), лич- ность основателя Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) известна 79 % граждан. При этом 46 % положительно оценили его деятельность (отрицательно – всего 17 %), у 35 % он вызывает уважение, еще 10 % относятся к нему с симпатией, 7 % – с доверием, а 5 % и вовсе восхищены им10. Тем не менее часть населения напрямую ассоциирует первого руководителя ВЧК с «кровавым режимом», виновным в трагедии миллионов жертв политических репрессий [1, с. 100].
Как уже упоминалось, чем более неоднозначны оценки государственного деятеля в обществе, тем громче споры о возможности увековечивания его памяти. В связи с этим очень показательна полемика о возвращении на Лубянскую площадь монумента Феликсу Дзержинскому. Он был возведен в 1958 г., в период хрущевской «оттепели». Многие художники признают, что с точки зрения архитектуры скульптором Е. В. Вучетичем найдено просто блестящее решение [1, с. 98]. В период августовского путча 1991 г. монумент был снесен. Ночью 22 августа собравшаяся толпа рвалась штурмовать здания КГБ и ЦК КПСС, но ее разрушительная энергия оказалась перенаправлена на бронзовую фигуру в центре площади. Постамент изуродовали надписями «антихрист», «кровавый палач» и подобными, после чего толпа стала раскачивать памятник. Во избежание непредсказуемого развития событий прямо на месте было принято и реализовано срочное решение Моссовета о демонтаже монумента с помощью строительной техники. Позднее памятник был перенесен к зданию Центрального дома художника на Крымском Валу, поскольку там для сохранения снесенных символов советской эпо- хи формировался Парк искусств «Музеон». Стоящий в парке монумент перестал вызывать возмущение.
В 1998 г. Государственная Дума РФ приняла постановление, в котором призвала мэрию Москвы вернуть памятник на Лубянскую площадь, однако обращение было проигнорировано. Предметом общественной полемики в данном случае является не памятник, а именно идея его перемещения из «Музеона» в центр Лубянской площади. С 2002 по 2014 г. различные организации и отдельные лица шесть раз проявляли инициативу вернуть памятник, а протесты против его возвращения были выражены девять раз [1, с. 95–97]. По результатам опроса ВЦИОМ, проведенного в 2013 г., 45 % российских граждан поддерживали инициативу по возвращению памятника Ф. Э. Дзержинскому на прежнее место – Лубянскую площадь, против выступили 25 %11. Отношение к этому в официальном дискурсе остается нейтральным, каких-либо определенных решений до настоящего времени не принято. Свержение памятника Дзержинскому было крайне символическим актом, и таким же может быть его потенциальное возвращение [1, с. 101].
В целом по России немало мемориальных сооружений, увековечивающих память Ф. Э. Дзержинского и не вызывающих столь жарких споров. Только в Нижегородской области памятники «железному Феликсу» имеются в Дзержинске и Балахне; кроме того, в Нижнем Новгороде, у здания ГУ МВД России, установлен его бюст. Интересно, что уже в XXI в. появляются новые мемориальные объекты в честь основателя ВЧК. В 2004 г. открыт памятник в г. Дзержинском (Московская область), в 2012 – в Тюмени, в 2017 г. – в Кирове и Ханое (Вьет- нам). В ноябре 2005 г. бюст Дзержинского возвращен во двор здания Главного управления внутренних дел (ГУВД) в Москве (ул. Петровка, 38)12. Инициаторы, как правило, – ветеранские организации силовых ведомств. Если, например, на внутренней территории ГУВД в Москве бюст восстановили, стараясь не привлекать излишнего внимания, с крайне сдержанными комментариями руководителя управления [3], то в Кировской области мероприятия прошли достаточно широко.
В центре Кирова 5 сентября 2017 г., в год 140-летия со дня рождения Ф. Э. Дзержинского, с участием начальника Управления Федеральной службы безопасности России, ветеранов и главы области был торжественно открыт памятник13. Уже 11 сентября в с. Кай Верхнекамского района Кировской области, где будущий руководитель ВЧК в 1898–1899 гг. находился в ссылке, начал работу восстановленный Дом-музей Ф. Э. Дзержинского, на сегодня – единственный в России. Участие в торжественных мероприятиях приняли видные представители Государственной Думы, руководство Службы организационно-кадровой работы и Совета ветеранов ФСБ России. В декабре 2017 г. проект восстановления Дома-музея стал лауреатом Конкурса ФСБ России. Данный мемориальный объект, несомненно, является одним из элементов патриотического воспитания молодежи региона, а также начинающих сотрудников спецслужбы. Отметим, что среди экскурсий, подготовленных работниками музея, есть и посвященная истории УФСБ России по Кировской области14.
Серьезного сопротивления, за исключением язвительных выступлений представителей либеральных СМИ и политических партий левого толка, подобные инициативы не встречают.
На рассмотренном примере мы видим, что степень влияния монументов на общественное сознание напрямую связана с их территориальным размещением. Мемориальный объект становится важным пространственно-смысловым символом прежде всего тогда, когда расположен в исторически значимом для населения месте (в случае с памятником Ф. Э. Дзержинскому – непосредственно у штаб-квартиры главной спецслужбы России). Чем прочнее монумент олицетворяет связь прошлого и современности, являясь ежедневным напоминанием об исторических событиях, тем сильнее его повседневное воздействие на общество и тем больше разнополярных мнений возникает вокруг него.
В данном контексте не лишним будет обращение к мемориальным сооружениям, воздвигнутым в память о Юрии Владимировиче Андропове, – лидере, признанном даже за рубежом. Показательно, что в 1983 г. в связи с избранием Ю. В. Андропова Генеральным секретарем ЦК КПСС американский журнал «Тайм» объявил его «человеком года». В редакционной статье подчеркивалось, что влияние Андропова на мировую политику капитальнее и долговременнее влияния президента США Р. Рейгана.
В 2004 г. к 90-летию Ю. В. Андропова был установлен памятник в Петрозаводске. Будущий председатель КГБ и Генеральный секретарь ЦК КПСС изображен молодым15. Это связано с тем, что в 40-е гг. XX в. он являлся первым секретарем ЦК ВЛКСМ Карело-Финской ССР и во время Великой Отечественной войны был одним из организаторов партизанского движения в республике. Ранее В. В. Путин распорядился восстановить памятную доску в честь Ю. В. Андропова, снятую со здания на Лубянке на заре демократических перемен. К этому же юбилею было приурочено, по сообщениям информагентств, указание российского Президента об установлении монумента на пр. Андропова в Москве, рядом с парком «Коломенское»16. В пресс-службе Президента тогда эту информацию не подтвердили и не опровергли17. Тем не менее озвученная инициатива встретила отпор части общества. Согласно интерактивному опросу, среди почти 4 тыс. слушателей радиостанции «Эхо Москвы» только 31 % участников сочли установку памятника целесообразной, в то время как 69 % выступили против18. Абсолютизировать полученные данные было бы некорректно, учитывая оппозиционный характер радиостанции и значительной части ее аудитории, однако памятник бывшему генеральному секретарю в предполагаемом месте так и не появился.
Гораздо более репрезентативное социологическое исследование, проведенное в
2006 г. Левада-Центром, показало, что при оценке гражданами всех руководителей страны в XX в. Ю. В. Андропов (наряду с Леонидом Ильичом Брежневым) завоевал наибольшую симпатию19. В некоторой степени это связано с тем, что со времен руководства КГБ СССР он понимал важность укрепления авторитета властных и силовых структур в общественном сознании. Так, еще в июле 1967 г., обращаясь к выпускникам Высшей школы КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского, Ю. В. Андропов подчеркивал: «Нам надо беречь и укреплять доверие советских людей, всего советского народа к органам государственной безопасности, потому что это доверие – залог всех наших успехов» [15]. Впоследствии, в июне 1969 г., по инициативе Юрия Владимировича создано Бюро по связи КГБ с издательствами, другими органами массовой информации. По всей видимости, это способствовало постепенному, но системному формированию положительного образа ведомства и его лидера, а эффект сохранился в течение десятков лет.
Обсуждение
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что сохранение и приумножение памяти о наиболее ярких государственных деятелях дает положительные результаты в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Одновременно, на примере увековечения высших руководителей органов госбезопасности, мы видим, что подобная работа почти гарантированно инициирует активизацию конфликта в разнородном российском обществе. В этой ситуации вполне оправданным выглядит обращение к коммеморации20 деятельности представителей спецслужб, не являвшихся яркими политиками, но выделявшихся бесспорно позитивным вкладом в историю государства.
Среди подобных фигур, возвращающихся в современный дискурс, можно назвать Павла Фитина – начальника внешней разведки органов государственной безопасности с 1939 по 1946 г. Именно под его руководством была получена ценнейшая информация о стратегических замыслах германского командования, оказавшая решающее влияние на ход Второй мировой войны. Прототип Фитина впервые был упомянут в фильме «Семнадцать мгновений весны»: там глава советской разведки в шифровках Штирлицу – «Юстасу» проходил под псевдонимом «Алекс». В 2015 г. о руководителе разведки СССР был снят фильм21. В июне 2016 г. при участии директора Службы внешней разведки (СВР) России С. Е. Нарышкина в Екатеринбурге торжественно открыли памятную доску Фитину22. В конце 2016 г. СВР представила рассекреченные архивы о Второй мировой войне, которые демонстрируют вклад Павла Фитина в обеспечение руководства страны сведениями о перспективах открытия «второго фронта» в Европе, документальными материалами о планах союзников СССР по антигитлеровской коалиции в послевоенный период, а также в получении Советским Союзом секретов разработки ядерного оружия23. В октябре 2017 г. в Москве, около здания пресс-бюро Службы внешней разведки России, был открыт памятник П. Фитину24. Очевидно, что даже критически настроенной части населения достаточно сложно что-то возражать против увековечивания подобных легендарных личностей.
Аналогичные примеры можно продолжать. На уровне регионов открываются мемориалы, посвященные военнослужащим Вооруженных сил, органов безопасности, сотрудникам МВД, погибшим при исполнении служебного долга. Именами героев называют улицы, школы, в их честь регулярно проводят спортивные соревнования. Все это, безусловно, оказывает значимое положительное влияние на имидж, а значит, и на эффективность работы силовых ведомств. Развернута системная работа государства по недопущению фальсификации истории России в целом и специальных служб в частности. Под воздействием целенаправленных усилий улучшился образ советского КГБ, снизилась ассоциация органов госбезопасности с массовыми репрессиями. Так, в ходе январского опроса
2018 г. доля положительных высказываний о КГБ достигла уже 93%25 [5]. С учетом изложенного вполне обоснованным выглядит мнение, что открытие мемориалов и музеев, установка и демонтаж памятников, выбор названий для улиц и площадей, учреждение новых праздников и памятных дней не только способствуют изменению социально-культурной памяти, но и стимулируют коллективное «вспоминание» и (пере) оценку исторических событий [6, с. 7, 13].
Заключение
Завершая рассмотрение вопроса о трансформации исторического имиджа специальных служб и их руководителей, можно сделать выводы.
На фоне размытых исторических воззрений и постоянно увеличивающегося количества негативных информационных вбросов, необходимо систематически актуализировать достойные события прошлого и вписывать их в контекст настоящего. Таким образом подтверждается преемственность во времени, столь важная для любой силовой структуры.
Увековечивание образа конкретных представителей отечественных спецслужб, внесших действительно важный вклад в развитие Российского государства, является эффективным способом улучшения со- временного имиджа органов безопасности. При этом значимый результат может быть получен не только при обращении к общеизвестным личностям, но и в случае открытия обществу неизвестных ранее персоналий.
Формы публичного напоминания о людях или событиях могут быть различны: материальные (памятники, мемориалы и т. д.), информационные (статьи, фильмы, книги), организационные (памятные мероприятия, соревнования), а также носить комбинированный характер. Выбор конкретного способа зависит от складывающейся ситуации. Оптимальным вариантом является тот, который одновременно оказывает позитивное воздействие на общество (на общегосударственном, региональном или местном уровне), а также на моральнонравственное состояние сотрудников соответствующих государственных структур.
Как представляется авторам, текущий момент довольно благоприятен для формирования положительных представлений о выдающихся гражданах России и увековечивания их памяти. По нашему мнению, комплексное применение указанных выше возможностей способствует достижению важнейшей цели – усилению сплочения гражданского общества и представителей государства.
Список литературы Формирование образа отечественных органов государственной безопасности в общественном сознании: символический потенциал мемориальных объектов
- Васильева Н. Символика памятника Ф. Э. Дзержинскому в современном публичном дискурсе // Inter. – 2014. – № 8. – С. 92–104.
- Вильямс А. Дневники Берия / пер. с англ. М. А. Верниченко. – Екатеринбург, 1992. – 160 с.
- Гапеев А. Холодная голова и горячее сердце. Милиционерам зачем-то вернули бюст Дзержинского [Электронный ресурс]. – URL: https://lenta.ru/articles/2005/11/09/felix/ (Дата обращения: 14.04.2020).
- Гении власти. Лаврентий Павлович Берия (1899–1953) [Электронный ресурс]. – URL: http://nbmariel.ru/content/genii-vlasti-lavrentiy-pavlovich-beriya-1899-1953 (Дата обращения: 21.01.2020).
- Лезина Е. ВЧК и преемники. Ч. 2 : Ностальгия россиян по КГБ [Электронный ресурс]. – URL: http://argumentua.com/stati/vchk-i-preemniki-chast-2-nostalgiya-rossiyan-po-kgb (Дата обращения: 17.03.2020).
- Малинова О. Ю. Коммеморация исторических событий как инструмент символической политики: возможности сравнительного анализа // Полития. – 2017. – № 4 (87). – С. 6–22.
- Мартиросян А. Б. От славы к проклятиям. 1941–1953 гг. – М. : Вече, 2010. – 384 с.
- Пожаров А. И. Руководители советских спецслужб как объект мифотворчества в истории органов госбезопасности Советского Союза [Электронный ресурс]. – URL: http://www.fsb. ru/fsb/history/author/single.htm%21id%3D10318124%40fsbPublication.html (Дата обращения: 28.02.2020).
- Родин А. М. Л. П. Берия в атомном проекте // Военно-исторический журнал. – 2012. – № 9. – С. 60–66.
- Сидорин В. Последняя речь Дзержинского // Родина. – 2019. – № 12. – С. 120–121.
- Смирнов А. Рукотворные памятники, воздвигнутые Л. П. Берия [Электронный ресурс] // Ежедневный познавательный журнал «ШколаЖизни.ру». – URL: https://shkolazhizni.ru/ culture/articles/76131/ (Дата обращения: 03.03.2020).
- Соколов А. С. Штрихи к портрету руководителя органов Всероссийской чрезвычайной комиссии // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». – 2018. – № 3 (19). – С. 205–212. DOI 10.25513/2312-1300.2018.3.205-2012.
- Тойнби А. Дж. Постижение истории : пер. с англ. – М. : Прогресс, 1991. – 736 с.
- Фортунатов А. Н. Эго-медиа. Социально-философские штрихи к истории телевидения: практический курс. – М. : ФЛИНТА, 2018. – 174 с.
- Хлобустов О. Председатель КГБ СССР Юрий Владимирович Андропов [Электронный ресурс]. – URL: http://www.fsb.ru/fsb/history/yubiley.htm (Дата обращения: 17.04.2020).