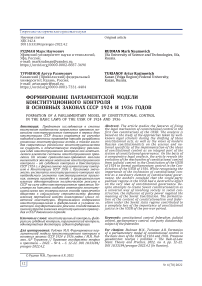Формирование парламентской модели конституционного контроля в основных законах СССР 1924 и 1936 годов
Автор: Рудман Марк Наумович, Туриянов Артур Разимович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Теоретико-исторические правовые науки
Статья в выпуске: 4 (70), 2022 года.
Бесплатный доступ
Предметом исследования в статье выступают особенности закрепления правового механизма конституционного контроля в первых двух конституциях СССР. Анализ опирается на изучение подходов известных правоведов периода разработки указанных конституционных актов, а также взглядов современных российских конституционалистов на сущность и отечественную специфику реализации идей конституционного контроля как неотъемлемого элемента системы конституционного правления. На основе сравнительно-правового анализа выявляется эволюция механизма конституционного контроля - от судебного контроля в Конституции СССР 1924 г. к формальному парламентскому контролю в Конституции СССР 1936 г. Признавая значимость института конституционного контроля как необходимого элемента конституционного правления, авторы приходят к выводу о разрушительном влиянии однопартийного политического режима в СССР на саму идею конституционного правления. Несмотря на попытки создания советского конституционализма как универсального способа привлечения общества к социальному строительству, фактор влияния партийной власти нивелировал смысл советской конституции. Формализация содержания конституционализма и федерализма в условиях советского государственного режима способствовала полной утрате значения конституционного правосудия в СССР довоенного периода.
Конституционный контроль, федерализм, судебный контроль, парламентский контроль, однопартийная диктатура, субъект федерации
Короткий адрес: https://sciup.org/142236940
IDR: 142236940 | УДК: 342.4 | DOI: 10.33184/pravgos-2022.4.2
Текст научной статьи Формирование парламентской модели конституционного контроля в основных законах СССР 1924 и 1936 годов
Введение: изм енение условий формирования советского конституционализма после ок онча ния Граж д[анской вой ныl
Разработка и принятие Конституции 1924 г., ставшей первой в истории Конституцией СССР, происходила в изменившихся по сравнению с 1918 г. условиях.
Во-первых, имел место провал в 1920 г. проекта большевистской партии о превращении Гражданской войны в России в мировую гражданскую войну, которую большевики определяли как Мировую революцию, что составляло цель деятельности большевистского правительства. Теперь эта цель уже не являлась первостепенной, поскольку народы Европы и Азии не продемонстрировали готовности поддержать приход Красной Армии для установления советского режима.
Во-вторых, победа уже сложившейся в годы Гражданской войны однопартийной диктатуры, практика управления и соответствующая ей система государственных органов означала установление неограниченной власти большевистской партии в пределах большей части бывшей Российской империи. Это означало, что те нерешенные проблемы обеспечения государственного единства, которые постоянно дестабилизировали состояние власти в Российской империи, теперь было необходимо решать большевистскому правительству.
В-третьих, хозяйственный кризис зимы 1920-1921 гг. привел к массовым крестьянским антибольшевистским восстаниям, которые, по признанию В.И. Ленина, являлись намного более значимой для большевистской власти угрозой по сравнению с только что побежденными белыми армиями и другими враждебными большевистской диктатуре движениями. Советская идеология полного огосударствления всей общественной жизни, получившая наименование военного коммунизма, поставила народы России на грань голодной смерти, что привело к идеологическому кризису и первоначальную идею власти Советов, отраженную в Конституции РСФСР 1918 г
Руководству большевистской диктатуры пришлось принять оперативно предложенную В.И. Лениным доктрину ленинизма, означавшую реализацию большевистской идеологии в «отдельно взятой стране», с учетом сохранения внутреннего гражданского конфликта, связанного с тем, что большая часть населения России не приняла большевистской идеологии, требовавшей полного отказа от собственности и зависимости от государственного распределения.
Все эти новые условия были отражены в политической системе нового советского режима, уже не находившегося в состоянии военного противостояния с врагами, но сохранившего идеалы вооруженного насилия над враждебными «классами» как основу организации власти.
С уд ебна я м од ель конституционного контроля и конституционного надзора в К о н с т и т уц и и СССР 1 924 г.
В Конституции РСФСР 1918 г. отражал ись намерения принимавших ее большевиков, тогда еще сотрудничавших с левыми эсерами, опираться на советскую демократию в лице местных Советов1. Такие надежды были оправданы поддержкой крестьянства, вызванной решительным изъятием помещичьих земель. Благодаря угрозе возвращения помещичьей власти в лице белых армий и непонятных крестьянам национальных и демократических движений большевикам, сразу после принятия Конституции РСФСР 1918 г. установившим однопартий ную диктатуру, удавалось сохранить поддержку большинства крестьян. Они были согласны терпеть изъятия хлеба в рамках политики военного коммунизма как условие того, что ненавистная им дворянская власть никогда не вернется в русскую деревню. В этом состоянии большевики могли в той или иной степени опираться на местные крестьянские Советы. Но политический кризис зимы 1920-1921 гг. показал, что для понравившей ся местным функционерам неограниченной большевистской власти на всех уровнях неуправляемые местные Советы стали опасными. Лозунг крестьянских восстаний «За Советы без коммунистов!» доказывал несовместимость крестьянской демократии с самодержавной властью большевистской диктатуры .
По этой главной причине руководство большевистской партии уже не устраивали неопределенные формулировки полномочий местных Советов, выражающие идею их независимости, поскольку восстания 1921 г. по-
-
1 КонеКонституция :h [Основной о закон):cРоссийской циалистической Федеративной Советской Республики [10 июля 1918 г.) // Советские конституции : хрестоматия : в 4 ч. Ч. 1. Первые советские республики, 1918-1922 гг. / сост. Д.В. Кузнецов. Благовещенск : Благовещенский гос. пед. ун-т, 2015. С. 14-21 [Электронный ресурс]. URL: http://istfil.bgpu.ru/ [дата обращения: 17.01.2022).
казали, что они могут быть истолкованы как законное основание неподчинения политике центрального правительства в лице ВЦИК и СНК. Например, в п. «г» ст. 60 Конституции РСФСР отмечалось, что «В границах своего ведения Совет, то есть общее собрание избирателей, есть высшая в пределах данной территории власть». Комментируя эти положения в том смысле, что они по содержанию уже устарели, М.А. Рейснер утверждал в 1923 г., что признание за Советами «известной автономии» следует считать проявлением уже утратившей силу «прежней независимости» [1, с. 375].
М.А. Рейснер стал главным разработчиком проекта конституции, подготовленного в 1923 г. сразу после подписания Декларации о создании Союза ССР, согласно которому ни один закон не может вступить в силу в случае, если он противоречит положениям конституции - «такой акт почитается не имеющим никакой обязательной силы». Вопрос о том, какой орган власти будет выполнять функцию конституционного контроля, решался, по сути, прежним путем. Г.С. Гурвич писал, что сама власть «некомпетентна» в решении вопроса о том, «противоконституционен тот или иной акт центральной власти или нет». Он считал, что полномочия по изменению или дополнению основного закона необходимо предоставить ЦИКу: «В этом была единственная возможная гарантия от нарушений и лучший способ обеспечить закономерное развитие и рост основного закона в согласии с требованиями жизни» [2, с. 89].
Однако именно благодаря первой Конституции СССР - Конституции 1924 г. - была создана институциональная основа конституционного контроля - Верховный Суд СССР. Как отмечает российский специалист по истории конституционного права Б.А. Страшун, появление в нашей стране первого органа конституционного контроля произошло с принятием Конституции СССР в январе 1924 г.
Верховный Суд СССР создавал ся «в целях утверждения революционной законности на территории Союза С.С.Р. при Центральном Исполнительном Комитете Союза ССР», то есть рассматривался в качестве подразделения высшего органа законодательной власти. В его полномочия как первого в истории России органа конституционного контроля, согласно п. «в» - «д» ст. 43 Конституции СССР 1924 г., входили составление заключений о законности законодательных актов союзных республик с точки зрения содержания союзной Конституции, разрешение судебных споров между союзными республиками и рассмо- трение дел по обвинению лиц, занимающих высшие должности в правительстве СССР, в преступлениях по исполняемой должности2. Стремление большевистского руководства принципиально не допустить даже видимости разделения властей проявилось в подчиненном статусе Верховного Суда СССР. Его наиболее ярким функциональным проявлением являлось то, что заключения о законности тех или иных нормативных актов союзных республик Верховный Суд СССР давал не по своей инициативе или требованию граждан, а только по требованию ЦИК СССР, который в Советском государстве считался аналогом органа законодательной власти [3, с. 108].
Н.В. Григорьева отмечает распространенное среди исследователей истории принятия и содержания Конституции СССР 1924 г. мнение о том, что учрежденный согласно ее разд. VII Верховный Суд СССР являлся в большей степени органом конституционного надзора, чем конституционного контроля [4, с. 6]. Такая точка зрения основана на функциональном различии между указанными понятиями. Оно состоит в ограниченности конституционного надзора, органы которого выявляют нарушения конституционных норм, но не имеют полномочий на их отмену. В противовес такому ограничению орган конституционного контроля наделен полномочиями по приостановлению действий нормативного акта на основании выявления его противоречия конституции [5, с. 103].
Н.А. Митюков считает, что установленные Конституцией СССР 1924 г. полномочия Верховного Суда СССР характеризуют его как орган конституционного надзора. Верховный Суд СССР, согласно положениям ст. 43, выполнял весьма ограниченные функции, в которые не входила отмена противоречащих конституции актов, но он был призван выявлять такие факты и ставить о них в известность ЦИК СССР [6, с. 74].
При этом в структуре Верховного Суда СССР присущий большевистскому режиму принцип централизации власти проявился в том, что она включала должность прокурора Верховного Суда СССР и его заместителя, кандидатуры которых утверждались только с согласия Президиума ЦИК Союза ССР. В круг обязанностей прокурора Верховного Суда СССР входили
-
2 Осн Основной Dзакон Н[Конституция) СоюзаеСоветс Социалистических Республик [31 января 1924 г.) // Советские конституции : хрестоматия : в 4 ч. Ч. 2. СССР, 1922-1936 гг. / сост. Д.В. Кузнецов. Благовещенск : Благовещенский гос. пед. ун-т, 2015. С. 15-19 [Электронный ресурс]. URL: http://istfil.bgpu.ru/ [дата обращения: 17.01.2022).
выработка заключений по всем вопросам, относящимся к компетенции Верховного Суда СССР и наряду с этим, в случае необходимости, «поддержание обвинения» на заседаниях специальных судебных присутствий для рассм о-трения особо важных дел, а также дел персональной подсудности высших должностных лиц советского правительства. При этом в случае несогласия прокурора с общим мнением участников пленарных заседаний он получал право опротестовать его на заседаниях Президиума ЦИК СССР.
В ст. 47 Конституции СССР 1924 г. закреплялось исключительное право ЦИК СССР, прокурора Верховного Суда СССР, прокуроров союзных республик и ОГПУ СССР направлять на пленарные заседания Верховного Суда Союза ССР рассмотрение каких-либо вопросов. То есть Верховный Суд СССР находился в прямой зависимости от перечисленных должностных лиц и институтов при обсуждении вопросов, связанных с нарушениями конституции3.
Крайне ограниченны е полномочия и фактическое отсутствие в содержании Конституции 1924 г. института неотчуждаемы х индивидуальных прав не дает оснований для утверждения, что в СССР с 1924 г. была созд ана система конституционного контроля «по типу американской модели осуществления конституционного контроля» [4, с. 6].
Отличительными сторонами этой модели является осуществление конституционного контроля органами судебной власти, высшей инстанцией которых служит верховный суд. Однако в американской конституционной модели закреплены механизмы обеспечения административной независимости верховного суда от давления со стороны высших должностных лиц государства, которых при опоре Советского однопартий ного государства на неограниченны е властные полномочия в СССР в принципе быть не могло. Формал ьная модель конституционного контроля была заимствована из американской практики и только путем формального создания органа, который мог строго под контролем правительства в лице ЦИК СССР и по его запросу осуществлять функцию толкования различных нормативных актов, включая конституционные акты союзных республик. Такое руководящее положение отвечало представлениям большевиков об идеале власти, во многом унаследованном от исторически сложившейся тра-
-
3 Осн Основной (0законЭН[Конституция)Ю СоюзавеСо ских Социалистических Республик [31 января 1924 г.). С. 15-19 [Электронный ресурс]. URL: http://istfil.bgpu.ru/ [дата обращения: 17.01.2022).
диции русского самодержавия. Ее содержанию соответствовала фактическая зависимость руководства союзных республик от союзного правительства в лице ЦИК СССР. Ей соответствовали положения ст. 43 Конституции СССР 1924 г. о том, что Верховный Суд СССР предоставляет верховным судам союзных республик руководящие разъяснения по вопросам общесоюзного законодательства и вырабатывает по требованию того же ЦИК СССР заключения «о законности тех или иных постановлений союзных республик с точки зрения Конституции».
Поэтому точка зрения Н.В. Григорьевой о том, что сл ожившаяся к 1 924 г. в СССР практика конституционного контроля реализовывалась согласно «американской модели», нуждается в уточнении. Из американского конституционного опыта было использовано только название органа, формально осуществляющего конституционный надзор путем составления заключений о соответствии тех или иных положений нормативных актов, изданных государственными и партийными органами союзных республик, содержанию статей Конституции СССР 1924 г. Но поскольку в ее содержании основное внимание уделялось перечислению компетенций союзных органов власти, то проверка соблюдения конституционных норм означала возникновение дополнительного механизма централизации власти как основы государственного управления в СССР
Исходя из этого подхода законодателя решался и вопрос о федеративном государственном устройстве Союза ССР, кот орое также декларировалось в содержании Конституции СССР 1924 г. и было основано на испол ьзо-вании американского опыта федеративного государства. Но, как и в случае с верховным судом, заимствовалось, по сути, только наименование, так как через насильственное поддержание во всех союзных республиках режима однопартийной диктатуры государственное управление в них было строго централизовано под власть союзного ЦИК, который, в свою очередь, целиком подчинялся руководящим органам партии большевиков - Всесоюзной коммунистической партии большевиков - ВКП[б).
Важнейшим аспектом содержания Конституции СССР 1924 г. как Основного закона, положившего начало законодательству госу-д арства Союз ССР, являл ось формал ьное утверждение создания на основе советского строя федеративного государства. Само по себе это -означал о признание государственного суверенитета союзных республик, утвердивших факт создания нового федеративного госу- дарственного образования путем подписания 30 декабря 1922 г. Декларации о создании Союза ССР и Союзного договора. С другой сто-роныI, специфика советского строя и определившего его появление состояния крайнего ожесточения отношений в обществе, образовавшемся на основе разрушенной Российской империи, не создавали объективных и субъективных предпосылок фактического взаимного признания политического равноправия представителей союзных республик. Во всех союзных республиках как субъектах учреждения СССР сохранялся большевистский режим однопартийной диктатуры, опиравшей ся на принцип предельной концентрации власти в руках иерархии партийных органов.
Идеология федерализма опирается на принципиальную самостоятельность субъектов федерации в регулировании вопросов своего ведения и добровольность в передаче части своих полномочий под контроль центрального правительства. Однако принцип самостоятельности субъектов практически не отражен даже в содержании Конституции СССР 1924 г., и тем более он не мог быть реализован в практике организации советской власти, предельная централизация которой обеспечила большевикам победу в Гражданской войне и реализацию идеи создания плановой экономики после ее окончания.
В первых девяти главах подробно перечисляются способы формирования и сферы ведения союзных государственных органов, но не устанавливаются пределы их властных полномочий, кроме ответственности низших органов перед высшими. При этом Союзу ССР «в лице его верховных органов», согласно ч. «ч» ст. 1, предоставлялись полномочия по отмене «нарушающих настоящую Конституцию постановлений съездов советов и центральных исполнительных комитетов союзных республик».
О полной хозяйственной подчиненности республик, рассматриваемой как условие создания плановой социалистической экономики и проведения индустриализации, свидетельствует ст. 68 Конституции СССР 1924 г., согласно которой высшие органы хозяйственного управления обязывались осуществлять указания «народных комиссариатов Союза Советских Социалистических Республик».
Учитывая, что все органы власти к этому времени были укомплектованы только кадровыми членами ВКП[б), которые, за редким исключением, беспрекословно подчинялись партийной дисциплине, указанные полномочия в рамках конституционного строя фак- тически создавали унитарное государство, полностью подчиненное московскому правительству. Поэтому формальное утверждение независимости союзных республик являлось далеким от реальных возможностей противостоять политике центрального советского правительства, опирающегося на мощный бюрократический аппарат партийных комитетов всех уровней и жестко контролируемых ими государственных чиновников.
О статусе союзных республик в качестве обладателей государственного суверенитета говорится в гл. 2 «О суверенных правах союзных республик и о союзном гражданстве» и гл. 10 «О союзны х республиках». В ст. 3 сказано, что ограничение республиканского суверенитета допускается только «в пределах, указанных в настоящей Конституции, и лишь по предметам, отнесенным к компетенции Союза». Не считая указанны х ограничений, в той же статье отмечается, что «каждая союзная республика осуществляет свою государственную власть самостоятельно», а Советский Союз должен охранять их «суверенные права». При этом в ст. 4 было закреплено право на свободный выход каждой из республик из состава Союза ССР, а в ст. 5 - их пол номочия по изменению своих конституций.
В гл. 10 устанавливались структура и порядок формирования республиканских органов власти, полностью копирующие союзные.
Притом что в ст. 1 перечислялись фактически все сферы общественной жизни, относимые к ведению «верховных органов СССР», а местные органы власти обязывались выполнять директивы этих органов, версия об унитарном характере Советского государства, исторически унаследованном от Российской империи, имеет достаточно оснований. Декларирование суверенитета союзных республик при однопартий ном характере государственного режима не имело объективных предпосылок и ресурсов, при которых органы власти любой из суверенных республик могли бы занять позицию, противоречащую политике ЦИК СССР, полностью контрол ируемого руководством ВКП[б).
О нежелании отразить реальные стороныI сложившейся практики однопартийной диктатуры свидетельствует тот факт, что в тексте Конституции СССР 1924 г. отсутствуют упоминания о коммунистической партии.
При таких общеизвестных обстоятельствах представляется логически противоречивой распространенная в историко- правовой литературе позиция, согласно которой созданное в 1922-1924 гг. большевистской диктатурой государство можно считать федеративным. В противовес таким оценкам Н.П. Медведев прямо подчеркивает, что для большевиков как партии, захватившей силовым путем власть, «федерализм, по утверждениям ее лидеров, был временной уступкой, так как их стратегической целью был переход от советского федерализма к социалистическому унитаризму» [7, с. 29].
Аналогичную позицию занимает А.Н. Ме-душевский, утверждающий, что при создании Конституции СССР 1924 г. «при внешнем соблюдении федеративной формы объединения фактически реализовалась модель унитарного государства. В этом заключалась основная специфика «советской федерации на основе диктатуры прол етариата»» [8, с. 119].
Исходя из этого целью конституционного надзора, который осуществлялся через органы Верховного Суда и прокуратурыi, было именно обеспечение «социалистического унитаризма» в той форме, в которой он в тот момент признавался руководством большевистской партии.
Аналогичная позиция выражена в работе Г.А. Ефимова, посвященной эволюции в Российской империи и СССР ключевого для конституционного строя вопроса разграничения предметов ведения и полномочий. Онотмечает,чтосамосодержаниепрописанного в ст. 1 Конституции СССР 1 924 г. института «предметов ведения верховных органов власти» Союза ССР гарантировал о «ограниченность» провозгл ашаемого в текстах этой и последующих советских конституций суверенитета союзных республик в качестве субъектов федерации. С формально-юридической точки зрения разделение предметов ведения и следующих из нее властных полномочий в Конституции СССР 1924 г. было реал изовано путем закрепления в статьях Основного закона компетенции союзны х органов власти при параллельном признании ограниченности суверенитета союзны х республик [9, с. 164].
В рассмотренных условиях конституционный надзор сводился к выявлению и пресечению фактов неподчинения властных органов и должностных лиц политике союзного правительства и принимаемым директивам. То есть установленная, согласно Конституции СССР 1924 г., система государственного управления, по сути, не являлась федеральной и задачи конституционного надзора понимались большевистским руководством как государственная необходимость не допустить реальной самостоятельности союзных республик. Исходя из такого подхода вполне логично отсутствие закрепл ения в Конституции СССР 1924 г.
полномочий союзных советских республик по недопущению вступления в силу каких-либо законодательных и подзаконных актов союзных органов власти [6, с. 84].
Позднее, после осуждения сталинского режима в годы «оттепели» и с ростом интереса к исследованиям специфики утверждаемой в советской идеологии «социалистической законности», противопостiавляемой враждебной в силу ее «буржуазности» западной «законности», советские юристы -правоведы тщательно анализировали статус и практику Верховного Суда СССР. Такими иссл едовани-ями занимались Т.Н. Добровол ьская, В.Ф. Коток, Н.Я. Куприц, Г.Е. Петухов, М.А. Свистунова, П.И. Скоморохов, Х.Б. Шейнин. Общей чертой их работ являлось признание Верховного Суда СССР органом конституционного надзора. Он занимал ся, согласно Конституции СССР 1924 г., разносторонней деятельностью «по обеспечению соответствия актов союзных республик Конституции СССР» [10, с. 4].
Надо отметить, что уже тогда ограниченность такого надзора констатировалась исследователями. Например, М.А. Свистунова пришла к выводу о том, что только в СССР осуществляется такого рода надзор, который «не являлся самостоятельным», осуществлялся судом совместно с прокурором Верховного Суда СССР, и его решения не были окончател ь-ными. Предмет конституционного надзора был ограничен только соблюдением Конституции СССР в деятельности республиканских и союзных органов, за исключением высших союзных органов в лице Всесоюзного съезда Советов, избранного им ЦИК и его Президиума. Содержание статей, регулирующих деятельность Верховного Суда СССР и прокурора, включая их отношения с республиканскими органами, отражало характерный для конституционного развития России признак - пренебрежение к законодательному регулированию процессуальных сторон конституционного надзора - он «не имел специальной юридической процедуры » [11, с. 11].
Еще одно ценное наблюдение в рамках исследования специфики конституционного контроля в Советском государстве сделал В.Ф. Коток, утверждавший, что осуществляемый согласно ст. 43-48 Конституции СССР 1924 г. конституционный надзор следует рассматривать в качестве процессуальной стадии, которая на практике организационно предшествует конституционному контролю, осуществляемому высшими органами Советского государства в лице ЦИК СССР. Важное значение имел вывод В.Ф. Котока о характере осуществляемого Верховным Судом СССР кон- ституционного надзора, который имел «по существу консультативный характер», а его постановления носили рекомендательный характер [12, с. 106-107]. В постсоветской юридической литературе аналогичного подхода придерживается Б.Н. Топорнин [13, с. 31].
Одной из значимых работ, посвященных особенностям конституционного надзора в деятельности Верховного Суда СССР, учрежденного Конституцией СССР 1924 г., является работ а Н.Я. Куприца, который в 1971 г. подчеркнул сущностные отличия советского конституционного надзора от аналогичных систем в «буржуазных государствах», заключающиеся в принципиальном непризнании принципа разделения властей. Как отмечают современные исследователи, из этого объективно следует отказ от создания институтов, обеспечивающих независимость судебной власти от высших органов государственной власти [10, с. 6]. Достоинством работы Н.Я. Куп-рица является научно обоснованный вывод о том, что консультативный характер полномочий Верховного Суда СССР делает его деятельность, по сути, бессмы сленной. При этом выдвигалось предположение, что функции конституционного надзора могла бы выполнять прокуратура в качестве специфического направления деятельности по надзору за соблюдением принципа законности.
П ереход к модели парламентского конт рол я в К онст ит уц ии СССР 1 93 6 г.
Постепенно установивший ся режим личной власти И.В. Сталина не сразу был воспринят партийными лидерами и активистами партии как прекращение установившей ся при В.И. Ленине традиции внутрипартийных дискуссий. Поэтому при фактической неограниченности однопартийной диктатуры органы конституционного надзора, учрежденные Конституцией СССР 1924 г., были вынуждены реагировать на множество замечаний о несоответствии принимаемых различными органами власти решений положениям Основного закона. Взаимодействие между системами центрального и республиканского партийного и государственного управления в первые годы после вступления в силу Конституции СССР 1 924 г. осуществлял ось в условиях продолжения острых внутрипартийных споров, сопровождавших выбор способов построения социализма в «отдельно взятой стране», осложнявшегося поиском финансовых и трудовых ресурсов для проведения индустриализации.
Свобода внутрипартий ных дискуссий сформировал ась еще при В.И. Ленине, и активные члены партии под ее влиянием часто выступали с разного рода инициативами, направленными на повышение эффективности управления - необходимого условия построения социализма. Кроме того, многие республиканские партийные организации считали необходимым учитывать местную специфику при принятии законодательных и нормативных актов, ориентируясь на продекларированные в Конституции СССР 1924 г. принципы суверенитета союзных республик.
Такие мнения противоречили взглядам и управленческому опыту большинства членов партии, полученному в годы Гражданской войны, и они активно сигнализировали в Верховный Суд СССР о разного род а откл онениях местных актов от содержания статей Конституции. Только в 1924 г. г. в Верховный Суд СССР поступило 2197 нормативных актов для проверки их соответствия положениям Конституции СССР 1924 г. В 1928 г., по данным С.Б. Мирзоева, их число возросл о до 6272 [14, с. 61]. При такой загруженности становилась очевидной нецелесообразность ограниченности полномочий Верховного Суда СССР в реакции на получаемые сведения о нарушениях Основного закона. Ведь исправление таких нарушений могло быть реализовано только в силу постановлений Президиума ЦИК СССР, отменявших выявленные надзорной инстанцией неконституционные акты [15, с. 41]. Предусмотренный ст. 47 Конституции СССР 1 924 г. порядок закреплял пассивную рол ь Верховного Суда. Он мог рассматривать противоречие того или иного акта статьям Конституции только по запросу ЦИК СССР, его Президиума, прокурора Верховного Суда, прокуроров союзны х республик и ОГПУ СССР.
В 1929 г. на основе такой практики статус Верховного Суда СССР был реорганизован путем предоставления ему права «самостоятельного вхождения в Президиум ЦИК СССР с ходатайством о рассмотрении вопросов соответствия статьям Конституции постановлений ЦИК союзны х республик, а также об отмене постановлений наркоматов и других центральных органов власти, за исключением решений ЦИК СССР, Совета Народны х Комиссаров СССР, Совета труда и обороны »4. Кроме того, конституционный надзор реализовы-
-
4 ПолПоложениеко»Верховном,еСуде СССР и Прок туре Верховного Суда СССР от 24 июля 1929 г. // Собрание законодательства СССР. 1929. № 50, ст. 445 [Электронный ресурс]. URL: http: //www.pravo.gov.ru/ [дата обращения: 17.01.2022.).
вался путем опротестования перед Президиумом ЦИК СССР по постановлению прокурора постановлений, решений и приговоров верховных судов союзных республик как противоречащих общесоюзному законодательству или затрагивающих интересы других союзных республик [16, с. 129].
Относительная уравновешенность созданного механизма конституционного надзора осуществлялась за счет участия представителей союзных республик в деятельности центральных органов власти. Например, руководители республиканских верховных судов принимали участие в пленарных заседаниях Верховного Суда СССР. Вы сшие государственные органы союзных республик имели право опротестовать постановления Пленума Верховного Суда СССР.
Но с 1933 г. Верховный Суд СССР утрачивает полномочия по судебному конституционному контролю. В противовес ему учреждается Прокуратура СССР, получившая право общего надзора за соблюдением Конституции СССР, законодател ьства Союза ССР и союзны х республик, постановлений Правительства СССР, актов отдельных управл енческих учреждений СССР5.
Тенденция к предельной централизации государственной власти неизбежно снижала значение конституционного контроля с точки зрения сталинского правительства. В Конституции 1936 г. эта тенденция проявил ась в том, что теперь специальный орган конституционного контроля отсутствовал, а на практике его осуществлял Президиум Верховного Совета СССР. Верховный Совет СССР, согл асно ст. 30 Конституции СССР 1936 г., являлся «высшим органом государственной власти», наделенным всей полнотой законодат ельной власти6. Согласно сложившейся практике Президиум Верховного Совета СССР осуществлял полномочия по толкованию законов СССР и союзных республик, а также отмене решений центрального и республиканских совнаркомов на основании выявленного противоречия их Основному закону. Н.В. Григорьева настаивает на том,
-
5 Об учреждении Прокуратуры СССР : постановление Центральной избирательной комиссии СССР, Совета народных комиссаров СССР от 20.06.1933 // Собрание законодательства СССР. 1933. № 40, ст. 239 [Электронный ресурс]. URL: https://istmat.org/node/36848 [дата обращения: 17.01.2022).
-
6 Основной закон [Конституция) Союза Советских Социалистических Республик от [5 декабря 1936 г.) // Советские конституции : хрестоматия : в 4 ч. Ч. 3. СССР, 19361977 гг. / сост. Д.В. Кузнецов. Благовещенск : Благовещенский гос. пед. ун-т, 2015. С. 13-23 [Электронный ресурс]. URL: http://istfil.bgpu.ru/ [дата обращения: 17.01.2022).
что Президиум в качестве реально и постоянно функционирующего органа осуществлял в СССР полноту законодательной власти, включая контроль за соответствием содержания всейнор-мативно-законотворческой деятельности статьям Конституции «победившего социализма». Она определяет сложившуюся согласно Конституции СССР 1936 г. систему конституционного контроля как «парламентский контроль». В качестве его важнейшей специфической особенности следует выделить выборность законодательных и иных норм, подлежащих толкованию с целью осуществления конституционного надзора. В системе парламентского контроля было резко ограничено как число субъектов права, обладающих полномочиями требования дать толкование того или иного акта, так и вопросы законодательного регулирования, которые могли выноситься на такое толкование. В любом случае сложившаяся согласно Конституции СССР 1936 г. система парламентского контроля как направления конституционного надзора и конституционного контроля являлась предельно ограниченной, поскольку он не предполагал обращений со стороны советских граждан и их союзов с требованием такого тол кования [4, с. 8].
Надо отметить, что в современной литературе по истории развития отечественного конституционного права встречается точка зрения, согласно которой в Конституции СССР 1936 г. был предусмотрен конституционный контроль «со стороны президиумов верховных советов СССР и союзны х республик», и такая форма контроля, по сути, была разновидностью парл аментского контроля [15, с. 45]. Основания для такого вывода состоят в том, что согласно рассмотренныiм статьям Конституции СССР 1936 г. функцию конституционного контроля осуществляли верховные советы СССР и союзных республик, которые по таким формальным признакам, как выборность и обладание законодательными полномочиями, могут считаться советским вариантом парламента. Противоположную позицию занимают такие авторы , как М.А. Митюков и А.М. Бар-нашов, настаивающие на том, что за все годы существования Советского государства в силу его диктаторского характера «не только судебный, но и парламентский контроль ... так и не сложился» [17, с. 39].
Для выявления специфики сложившейся, согласно Конституции СССР 1936 г., системы конституционного контроля надо отметить, что теперь в качестве органа такого контроля выступал Верховный Совет СССР. Но он, согл асно позиции Н.В. Григорьевой, «не обл а- дал правом проверки на конституционность собственных законодательных актов» [4, с. 8]. Мнение Н.В. Григорьевой основано на том, что в самой Конституции СССР 1936 г. такие полномочия Верховного Совета СССР не указаны . Согласно ст. 14 и 16 Конституции СССР 1936 г. высшие органы государственной власти выполняли функции контроля за соответствием принимаемых союзными республиками законов содержанию союзного законодательства. Отсюда следует, что функция конституционного контроля была передана Верховному Совету СССР. Учитывая сессионный характер его деятельности, можно сделать вывод о том, что на практике эту функцию выполнял Президиум Верховного Совета СССР.
Н.В. Григорьева выделяет различия между конституционным контролем и надзором. Они состоят в том, что в рамках конституционного контроля должны проверяться нормы всего действующего законодательства на предмет их соответствия Основному закону, а общий надзор осуществляется большинством органов государственной власти с целью поверки соблюдения учреждениями и физическими лицами советских законов и норм конституции. Из этого следует, что в Конституции СССР 1936 г. не было предусмотрено специал изи-рованного конституционного контроля, осуществляемого конкретным государственным органом. В исключительных случаях, согласно закрепленным в Основном законе полномочиям верховных советов всех уровней, ими осуществлялся «парламентский контроль», а в целях соблюдения Конституции СССР Прокурором СССР осуществлялся конституционный надзор [4, с. 7].
З а к 'лючение
Сложившаяся в СССР система конституционного контроля отличалась следующими основными чертами.
Во-первых, преобладающее значение имел контроль центральных органов за соответствием принимаемых высшими органами власти союзных и автономных республик актов союзному законодательству, включающему Конституцию СССР 1936 г. и принимаемы е Верховным Советом СССР законыI. То есть область контроля стала достаточно обширной, выходила далеко за рамки собственно конституционного контроля как обеспечения строгого соответствия содержания принятых нормативных актов статьям Конституции СССР 1936 г. Реал изация такого контроля возлагалась на Верховный Совет СССР как выс- ший выборный представительный орган государственной власти. В перерывах между его сессиями такой контроль осуществлял Президиум Верховного Совета СССР.
Во-вторых, для внешнего соответствия системы конституционного контроля федеративному государственному устройству Советского Союза, ориентированного на привлечение в свой состав новых государств в форме союзных республик, была учреждена двухзвенная система контроля за соответствием республиканских законов общесоюзному законодательству. Наряду с контролем на уровне общесоюзных органов создается аналогичная система органов контроля в субъектах федерации - в союзных и автономных республиках. Их высшие представительные органы занимались проверками соответствия республиканского законодательства Конституции СССР, общесоюзныIм законам и республиканской конституции. В автономных республиках такой контроль усложнялся тем, что он был призван обеспечить в своем законодательстве отсутствие нарушений законов СССР и законов союзной республики, в состав которой входила данная автономия.
В-третьих, ликвидация ранее учрежденного в Конституции СССР 1924 г. судебного конституционного надзора на основе деятельности Верховного Суда СССР рассматривается как шаг к обеспечению принципа полновластия Советов. Такое теоретическое обоснование сопровождает передачу контрольных функций верховным советам всех уровней, которая становится специфической особенностью «советской модели контроля законодательства» [14, с. 64].
Она состояла в осуществлении контроля за соответствием законодательства союзных и автономных республик законодательству Союза СССР, включая действующую Конституцию СССР, именно высшим представительным советским органом как политико-пропагандистское выражение идеи полновластия Советов, укрепления их формального значения и авторитета.
В-четвертых, контроль со стороны верховного совета каждого уровня не был распространен на законодательные акты республиканских представительных органов, то есть он касался только актов исполнительных органов государственного управления. Например, согласно п. «е» ст. 49 Конституции СССР 1936 г. Президиум Верховного Совета СССР мог отменить решения советов министров союзного и республиканского уровней «в случае их несоответствия закону». Но в случае выявления противоречия Конституции СССР акта пред- ставительного органа союзной республики Верховный Совет СССР предлагал привести его в соответствие с общесоюзныiм законодательством. В случае несогласия республиканского верховного совета отменить свое решение Президиум Верховного Совета СССР принимал специальный указ.
Таким образом, согласно Конституции СССР 1 924 г. была созд ана институциональная основа конституционного контроля в лице Верховного Суда СССР. Его статус при ЦИК СССР подчеркивал зависимое положение конституционного контроля, осуществляемого, согласно тексту Конституции СССР 1924 г., с целью «утверждения революционной законности» без формального определения ее содержания. Согласно ст. 43 Конституции СССР 1924 г. в пол номочия Верховного Суда СССР наряду с другими входило составление заключений о законности законодательных актов союзных республик с точки зрения содержания союзного Основного закона. Принципиальное стремление большевистского правительства не допустить даже формальной независимости высшей судебной инстанции наглядно выражается в ограничении полномочий Верховного Суда СССР, который даже свои закл ю-чения о законности тех или иных норматив- ных актов союзных республик вырабатывал только по требованию ЦИК СССР как высшего органа государственной власти. Поскольку в полномочия Верховного Суда СССР не входила функция отмены неконституционных нормативных актов, то представляется обоснованной точка зрения, согласно которой он являлся органом конституционного надзора, по результатам экспертной деятельности которого конституционный контроль осуществлял ЦИК СССР. Специфической особенностью структуры Верховного Суда СССР являлось включение в его состав должности прокурора Верховного Суда СССР, обл адавшего наряду с ЦИК СССР и ОГПУ СССР правом направлять на пленарные заседания Верховного Суда Союза ССР рассмотрение каких-либо вопросов. То есть Верховный Суд СССР оказал ся в прямой зависимости от перечисленных должностных лиц и институтов в обсуждении каких-либо вопросов, связанных с нарушениями Основного закона. Теоретически такая модель может именоваться парламентским контролем, но с оговорками относительно того, насколько понятия, связанные с институтами парламентаризма, могут использоваться для целей и методов деятельности Советского государства и его учреждений.
Список литературы Формирование парламентской модели конституционного контроля в основных законах СССР 1924 и 1936 годов
- Рейснер М.А. Государство буржуазии и РСФСР / М.А. Рейснер. - Москва ; Петроград: Государственное издательство, 1923. - 429 с. [Электронный ресурс]. URL: https://www.prlib.ru/item/1054651.
- Гурвич Г.С. История Советской Конституции / Г.С. Гурвич. - Москва: Издание Социалистической академии, 1923. - 216 с. [Электронный ресурс]. URL: https://www.prlib.ru/item/711459.
- Страшун Б.А. Эволюция института конституционного контроля в России: от надзора к правосудию. Часть 1 / Б.А. Страшун // Сравнительное конституционное обозрение. - 2016. - № 1 (110]. - С. 106-120.
- Григорьева Н.В. Исторические этапы формирования органов конституционного контроля в России / Н.В. Григорьева // Вестник Томского государственного университета. История. - 2020. - № 65. - С. 5-12.
- Вайман А.Б. К вопросу о конституционном контроле в Российской Федерации / А.Б. Вайман // Вестник экономики, права и социологии. - 2011. - № 2. -С. 103-106.
- Митюков М.А. Судебный конституционный надзор 1924-1933 гг.: вопросы истории, теории и практики / М.А. Митюков. - Москва: Формула права, 2005. - 208 с.
- Медведев Н.П. История федерализма в России / Н.П. Медведев // Региональное и муниципальное управление: вопросы политики, экономики и права. -2016. - № 3-4 (4-5]. - С. 26-33.
- Медушевский А.Н. Конституция 1924 года: как и где были заложены причины крушения СССР? Часть I / А.Н. Медушевский // Сравнительное конституционное обозрение. - 2015. - № 1 (104]. - С. 117-129.
- Ефимов Г.А. Особенности разграничения предметов ведения и полномочий в условиях федерализма и местного самоуправления: опыт советской и царской России / Г.А. Ефимов // Вестник Международного юридического института. - 2019. - № 1 (68]. - С. 163-170.
- Митюков М.А. О генезисе отечественного конституционного правосудия (идеи и предложения второй половины 60-80-х годов XX века] / М.А. Митюков // Вестник Томского государственного университета. -2003.-№ 279.-С. 3-11.
- Свистунова М.А. Проблемы конституционного надзора в СССР: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.00 / М.А. Свистунова. - Москва, 1971. - 17 с.
- Коток В.Ф. Конституционная законность, конституционный надзор и конституционный контроль в СССР / В.Ф. Коток // Вопросы советского государственного (конституционного] права. Труды Иркутского государственного университета. Т. 81. Серия юридическая. - Иркутск, 1971. - С. 97-115.
- Топорнин Б.Н. Развитие судебной власти в России: общие подходы / Б.Н. Топорнин // Судебная реформа: проблемы и перспективы. - Москва: Ин-т государства и права РАН, 2001. - С. 3-68.
- Мирзоев С.Б. Историко-правовые предпосылки развития конституционного надзора и контроля в России и Таджикистане / С.Б. Мирзоев // Правовое поле современной экономики. - 2012. - № 8. - С. 59-79.
- Несмеянова С.Э. Теоретико-правовое исследование конституционного судебного контроля в Российской Федерации: дис.... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / С.Э. Несмеянова. - Екатеринбург, 2004. - 476 с.
- Мирзоев С.Б. Становление и развитие советской системы конституционного надзора и контроля (историко-правовой аспект] / С.Б. Мирзоев // Юридическая наука: история и современность. - 2012. - № 7. -С. 124-132.
- Митюков М.А. Очерки конституционного правосудия (сравнительно-правовое исследование законодательства и судебной практики] / М.А. Митюков, A.M. Бар-нашов. - Томск: Изд-во Томского ун-та, 1999. - 405 с.