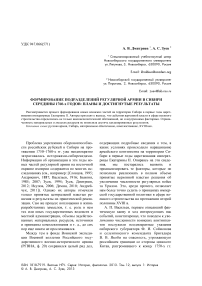Формирование подразделений регулярной армии в Сибири середины 1760-х годов: планы и достигнутые результаты
Автор: Дмитриев Андрей Владимирович, Зуев Андрей Сергеевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается процесс формирования новых воинских частей на территории Сибири в первые годы царствования императрицы Екатерины II. Авторы приходят к выводу, что действия верховной власти в сфере военного строительства определялись не только внешнеполитической обстановкой, но и внутренними факторами. Ограниченность материальных и людских ресурсов не позволила достичь запланированных результатов.
Русская армия, сибирь, материальное обеспечение, комплектование, xviii век
Короткий адрес: https://sciup.org/147218677
IDR: 147218677 | УДК: 947.066(571)
Текст научной статьи Формирование подразделений регулярной армии в Сибири середины 1760-х годов: планы и достигнутые результаты
Проблема укрепления обороноспособности российских рубежей в Сибири на протяжении 1750–1760-х гг. уже неоднократно затрагивалась историками-сибиреведами. Информация об организации в эти годы новых частей регулярной армии на восточной окраине империи содержится во многих исследованиях (см., например: [Словцов, 1995; Андриевич, 1887; Васильев, 1916; Быконя, 1985; 2007; Зуев, 1994; Зуев, Дмитриев, 2012; Исупов, 2006; Демин, 2010; Андрейчук, 2011]). Однако их авторы отмечали только принятые центральной властью решения и результаты их практической реализации. Сам же процесс воплощения в жизнь разработанных замыслов, т. е. роль в нем тех или иных государственных ведомств и местной администрации, объемы задействованных материальных ресурсов, источники и принципы комплектования и т. д., до сих пор еще никем не прослеживался.
Между тем в фонде Воинской экспедиции Военной коллегии Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА, ф. 20) сохранился целый ряд дел, содержащих подробные сведения о том, в каких условиях происходило наращивание армейского контингента на территории Сибири в первые годы царствования императрицы Екатерины II. Опираясь на эти сведения, мы постарались выявить и проанализировать те факторы, которые не позволили реализовать в полном объеме принятые верховной властью решения об увеличении численности регулярных войск за Уралом. Это, среди прочего, позволяет нам более точно судить о принципах имперской государственной политики в сфере военного строительства на протяжении второй половины XVIII в.
А. П. Васильев, первым описавший фактическую канву и ход интересующих нас событий, констатировал, что поводом к увеличению численности воинских контингентов послужили неоднократные указания сибирского губернатора Ф. И. Соймонова и селенгинского коменданта бригадира В. В. Якоби на опасность, угрожающую российским границам со стороны цинского Китая, разгромившего к концу 1750-х гг.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Том 12, выпуск 1: История © А. В. Дмитриев , А. С. Зуев, 2013
Джунгарское ханство и подчинившего себе всю Монголию [Васильев, 1916. С. 138–140, 166, 167].
Поэтому в Петербурге в ноябре 1763 г. было принято решение о формировании пяти пехотных и двух конных карабинерных полков, предназначавшихся для укрепления обороноспособности Забайкалья. При этом один карабинерный полк предполагалось создать на базе Якутского ландмилицейско-го полка, уже находившегося на забайкальской границе. Кадрами же для комплектования новых шести полков должны были послужить беглые старообрядцы, возвращенные в Россию после недавнего завершения Семилетней войны (1762 г.) с территории Речи Посполитой – так называемые «польские выведенцы» 1 [ПСЗРИ I, 1830. Т. 16. № 11979. С. 436; Т. 43. Ч. 1. С. 37].
Вместе с женами и детьми их предписывалось отправлять в Калугу к генерал-майору И. А. Кисленскому, назначенному ответственным за их дальнейшую отправку в Сибирь. Из Калуги их должны были партиями переводить в Казань, а далее через Верхотурье в Тобольск 2. В Тобольске надлежало распределить их по ротам, которые возглавляли армейские офицеры, выдать им обмундирование и вооружение, свести роты в полки, а затем направить в Забайкалье. Весь механизм намечавшихся к осуществлению мероприятий был детально разработан в январском 1764 г. донесении Военной коллегии Сенату 3.
Однако на перевод «польских выведенцев» в Забайкалье требовались огромные суммы денег, которыми государственная казна не располагала. Для покупки продовольствия на пути в Сибирь из ведомства Коммерц-коллегии было ассигновано почти 35 тыс. руб. 4, но нужны были еще и средства на изготовление для формируемых полков мундиров и оружия, на регулярные выплаты жалования и пр. В начале 1764 г. Екатерина II попыталась решить эту проблему путем увеличения денежной массы, приказав отчеканить на Колывано-Воскре-сенских заводах 250 тыс. руб., необходимых для первоначального обеспечения указанных полков.
Но уже летом того же года генерал-прокурор А. И. Глебов, одновременно занимавший должность генерал-кригс-комисса-ра (начальника Главного комиссариата – органа, ведавшего делами материального снабжения армии), доносил Военной коллегии, что горное начальство предоставило в распоряжение Сибирской губернской канцелярии лишь 80 тыс. руб., оказавшихся у него в наличии. Канцелярия горного начальства уверяла, что «для переделу тамошней меди в деньги за неспособностию при означенных заводах оному делу быть, определено построить вновь особливой завод, и за тою невозможностию не только что денег делать не за что, но еще и медь не очинена, и требующейся для того завод не построен, и машины не учреждены» 5.
В связи с этим сменивший Ф. И. Соймонова на посту сибирского губернатора Д. И. Чичерин предложил использовать на эти цели для обеспечения полков деньги, полученные от сибирского «соляного сбора» (налога на соль) – почти 175 тыс. руб. Но доставить их быстро из Сибири в европейскую часть страны оказалось затруднительно. Поэтому Главному комиссариату пришлось выплачивать суммы из подушных сборов: так, по требованию генерал-фельд-цейхмейстера (отвечавшего за производство артиллерии и вооружения) А. Н. Вильбоа было выдано 25 тыс. руб., необходимых для оплаты за изготовление на тульских оружейных заводах фузей, пистолетов и шпаг для двух пехотных полков, а также карабинов, пистолетов и палашей, требовавшихся Якутскому конному полку, дислоцированному в Забайкалье и реорганизуемому из ландмилицейского в карабинерный 6.
Организация вещевого довольствия также столкнулась с проблемами. Если сапог, патронных сумок и ранцев в комиссариатских магазинах (складах) имелось достаточное количество, то медных блях и пуговиц (для шапок и сумок), галунов, галстуков и штиблет, барабанов и водоносных фляг, готовых для отправки, не было. В результате пришлось принять решение о заключении через аукцион контрактов с производителями, пожелавшими бы взяться за выполнение госзаказа: «О вызове к поставке оных по- требного на объявленныя полки числа охочих людей по надлежащему чрез московскую полицмейстерскую канцелярию публиковать, а о припечатании о том в газетах и в московской императорской университет сообщить, и с явившимися производить торги» 7.
Заготовку сукна для пошива мундиров поручили И. Дриблову, содержателю суконной фабрики в Казани. В поставке же головных уборов губернатор Д. И. Чичерин счел возможным положиться на местных производителей, указав, что «в здешнем ведомстве имеются шляпные фабрики, которых содержатели на полки и военные команды прежде поставку шляп имели, и ныне к приготовлению оных на вновь учреждающейся корпус желание имеют, не свыше положенных по штату табельных цен, а на пехотные полки и с некоторою еще уступкою, добротою ж не хуже камисариатских, из чего высокому Ея Императорскаго Величества интересу последовать может приращение» 8.
На решение всех этих проблем ушло почти полгода (весна и лето 1764 г.), что значительно затянуло отправку в Тобольск первых партий будущих военнослужащих. В конце июля 1764 г. сибирский губернатор рапортовал Военной коллегии: «Я доныне ни малого числа мундирных и аммуничных вещей в наличии у себя не имею, и достать здесь не можно, в чем в укомплектовании в роты людей и в формировании их будет остановка» 9. В сложившейся ситуации центральной власти пришлось поставить в качестве первоочередной задачи формирование в Тобольске лишь двух пехотных полков, которые в дальнейшем следовало направить в Забайкалье – Селенгинского и Иркутского.
Для ускорения отправки в Тобольск всех необходимых вещей Военная коллегия, с одобрения императрицы, распорядилась выдать генерал-кригс-комиссару Глебову 55 тыс. руб. из Штатс-контор-коллегии и еще 45 тыс. – из запасов монеты, перечеканенной на Екатеринбургских заводах, указав «те вещи по изготовлении отправлять к сибирскому губернатору без потеряния удобного к тому времяни» 10. Это решение по предложению кн. А. А. Вяземского, к тому времени сменившего А. И. Глебова в должности генерал-прокурора и одновременно занимавшего пост генерал-квартирмейстера (начальника тыловой инфраструктуры) армии, было 2 октября 1764 г. поддержано Сенатом 11. В дальнейшем же, начиная с 1765 г., всю сумму, необходимую для содержания двух пехотных и Якутского карабинерного полка (ежегодно она составляла чуть более 100 тыс. руб. (см.: [ПСЗРИ I, 1830. Т. 43. Ч. 1. С. 438])), предписывалось получать от казны из средств «подушного сбора» 12.
Принять командование над определяющимися в Селенгинский пехотный полк должен был полковник И. В. Якоби, сын бригадира и селенгинского коменданта В. В. Якоби, заблаговременно отправленный отцом в Тобольск 13. В конце ноября 1764 г. он встретил там первые две партии «польских выведенцев» (всего 470 чел. обоего пола), однако годными в военную службу из них оказались менее трети – лишь 151 чел. Впрочем, распоряжением сибирского губернатора в полк оказались записаны и те люди, кого изначально рассматривали в качестве будущих крестьян-поселенцев, так что уже к середине декабря формирующийся полк насчитывал 312 рядовых 14.
Остальные партии продолжали прибывать в Сибирь на всем протяжении следующего 1765 г. В начале 1766 г. губернатор Чичерин подвел итог. Ведомость, представленная им в Военную коллегию, содержала следующие цифры: всего из Калуги в Тобольск было отправлено 10 917 чел. (5 995 мужчин и 4 922 женщины); прибыли к месту назначения 8 227 чел. (4 596 мужчин, 3 631 женщины); по дороге умерли или сбежали 2 690 чел. (1 399 мужчин, 1 291 женщина). Из 4,5 тыс. душ мужского пола было определено на военную службу в два пехотных полка всего 40 % (1 803 чел.), всех остальных пришлось отправить в Забайкалье «за неспособностию быть в службе на поселение» 15.
В связи с тем что «польских выведенцев», набранных в полки, было недостаточно, сибирские власти обратились к другим источникам комплектования: 296 чел. были зачислены в рядовые из состава четырех полевых драгунских полков, дислоцированных в Западной Сибири. Интересно отметить, что большинство среди них составляли лица, находившиеся под арестом «за разные продерзости», таковых насчитывалось 268 чел. (из них 54 гренадера). Тех же, кто добровольно согласились перейти в формировавшиеся пехотные полки, оказалось лишь 28 чел. (из них 6 гренадер) 16. В соответствии с высочайше утвержденными штатами, каждый из двух пехотных полков должен был насчитывать 272 гренадера и 1 360 мушкетеров [ПСЗРИ I, 1830. Т. 43. Ч. 1. С. 438, 439].
Намного успешнее производилось укомплектование пехотных полков офицерскими кадрами. Уже к августу 1764 г. в Тобольске была сформирована первая группа офицеров, назначенных на службу в оба полка, насчитывавшая 42 чел. В ее составе числились один подполковник, два премьер-майо-ра, три секунд-майора, один капитан, пять поручиков, четыре подпоручика, три прапорщика, 10 вахмистров (из полевых драгунских полков), шесть ротных квартирмейстеров и семь подпрапорщиков. Правда, несколько человек так и не прибыли к новому месту службы (в том числе подполковник фон Аппель и секунд-майор Н. Тютчев), а многие находились в различных «командированиях» от Москвы и Петербурга до Забайкалья (на китайской границе) 17. В ноябре того же года сибирский губернатор доносил Военной коллегии, что он распорядился «выключить» из состава будущих полков неявившихся офицеров, а также капитана А. Сидорова и поручика В. Пьянкова «за болезнию и неспособностию». Остальных офицеров он успел вызвать в Тобольск и определить в формировавший первым Се-ленгинский пехотный полк 18. Кроме того, ему было разрешено производить в офицерские чины тех унтер-офицеров и даже рядовых военнослужащих гарнизонных частей Сибири, которые прошли обучение в школах геодезии и геометрии.
Впрочем, понимая, что составить офицерский корпус из одних лишь сибиряков будет невозможно, Военная коллегия предписала зачислять в полки с повышением в чинах тех офицеров, которые сопровождали направлявшиеся в Тобольск партии «польских выведенцев». Так, в апреле 1765 г. сюда прибыла большая группа офицеров из 66 чел. во главе с капитаном Мартышевым, в том числе 15 поручиков, 16 подпоручиков и 34 прапорщика. Правда, с производством многих из них в следующие чины возникло затруднение, поскольку в дороге, конвоируя вверенный им контингент, они были уличены в различных проступках и преступлениях. Однако губернатор Д. И. Чичерин посчитал, что данное обстоятельство не может являться препятствием, поскольку «то по большей части последовало от слабой команды (т. е. неспособности командира партии капитана Мартышева добиться соблюдения дисциплины от своих подчиненных. – А. Д., А. З.)… и что они по прибытии в Та-болск так себя исправно и добропорядочно вели, как надлежит чесным афицерам» 19.
Получив соответствующее разрешение от Военной коллегии, Д. И. Чичерин, пользуясь своими полномочиями, уже в начале 1766 г. произвел поручиков М. фон Швей-дена и князя А. Голицына в капитаны; подпоручиков А. Дурново, С. Рихтера, Л. На-персткова, И. Попова и Ф . Пыпина – в поручики; прапорщиков А. Александрова, Н. Щетнева, М. Ситникова, Ф. Романова, П. Хохлова, П. Айдарова, М. Есипова, И. Вятчанинова, С. Карбутова, И. Башарина, Ф. Ребиндера, Н. Владычина, А. Фаустова и А. Рылова – в подпоручики. Поручика Г. Чичагова из состава той же партии, назначенного в Селенгинский пехотный полк, губернатор произвести в следующий чин не успел, ибо тот был «по ссоре того ж полку прапорщиком Ерохиным ножем заколот, отчего и умер» 20.
Для сопровождения «польских выведенцев» до Тобольска Военная коллегия с осени 1763 г. искала добровольцев среди офицеров гарнизонных частей, а также полевых пехотных полков Санкт-Петербургской дивизии, обещая им перевод в следующий чин при поступлении на службу в Сибири. В частности, пятеро из упомянутых выше офицеров ранее несли службу в Смоленском пехотном полку и добровольно согласились на сделанное им предложение, после чего были отправлены в Калугу к генерал-майору И. А. Кисленскому, чтобы оттуда начинать марш на восток 21. Следует заметить, что такое предложение охотно принимали многие офицеры, оставшиеся «за штатом» после окончания Семилетней войны в 1762 г. или переведенные из полевых частей в гарнизонные – ведь возвращение на службу в полевые полки, пусть даже дислоцированные в Сибири, давало возможность увеличить свои оклады жалования и позволяло рассчитывать на более быстрое продвижение в чинах.
Типичным примером подобного рода можно считать карьеру прапорщиков М. Скоробогатова и П. Самойлова. Оба в ноябре 1763 г. были переведены из Суздальского полевого пехотного полка в Ямбургский гарнизонный пехотный полк в Петербурге (по состоянию здоровья) еще в чинах сержантов, а в мае 1764 г. получили повышение в прапорщики. Однако, поскольку в гарнизоне столицы не было вакансий в данном чине, их поначалу велено было определить в гарнизон Риги. Не испытывая желания ехать в Прибалтику, Скоробогатов и Самойлов объявили чиновникам Военной коллегии, что готовы принять предложение отправиться на службу в Сибирь, уверяя, что «мы… ревность еще имеем службу Ея Им-ператорскаго Величества продолжать в Сибирском полевом корпусе» 22. Тогда же, летом 1764 г., на сибирскую службу были определены 18 выпускников Сухопутного кадетского корпуса, сразу же получившие чины прапорщиков 23. Большинство из них успело полностью освоить всю программу обучения за прошедшие 5–6 лет, как это и полагалось требованиями устава корпуса [Татарников, Юркевич, 2009. С. 3–6], так что были вполне подготовлены к службе.
Некоторые офицеры хлопотали о переводе в Сибирь своих родственников. Так, в августе 1764 г. на имя Екатерины II подавал челобитную уже определенный в Сибирский корпус подпоручик А. Рогов, просивший за своего родича, фурьера Новгородского полевого пехотного полка Л. Гилева (кстати, уроженца Сибири – его отец слу- жил обер-офицером в здешних гарнизонных драгунских частях) 24. А в 1765 г. губернатор Чичерин просил дозволения осуществить своеобразную «рокировку»: перевести из Якутского карабинерного в Селенгин-ский пехотный полк премьер-майора Я. Те-вяшова, а на его место определить ранее зачисленного в состав последнего премьер-майора Л. Фабрициуса. Майор Тевяшов ранее служил в Инженерном корпусе, но по слабости здоровья не мог исполнять свои обязанности в конном полку, поэтому добивался перевода в пехоту. Майор же Фабрициус почти 30 лет прослужил в конных драгунских полках и желал остаться на привычной для себя стезе 25. Одним словом, укомплектование обоих полков офицерскими кадрами производилось хотя и различными способами, но достаточно эффективно.
Помимо всех обозначенных выше проблем, трудности возникли также и с заготовкой провианта для уже начавших формироваться полков. Еще в докладе Военной коллегии императрице за ноябрь 1763 г. указывалось, что запасы провианта на всю Сибирь по данным за 1762 г. составили не более 44 тыс. четвертей (чуть более 5,7 млн т). В связи с этим предлагалось временно запретить перекупщикам приобретать хлеб большими партиями, а также, по истечении сроков заключенных контрактов, прекратить поставки зерна на винокуренные заводы в Иркутской и Енисейской провинциях «по то время, как довольное число провианту тамо заготовлено будет, или те самые поставщики обяжутся потребныя суммы хлеба в казну по положенным в штате ценам ставить: в таком случае из излишняго за тем хлеба, по пропорции и винокуренные заводы иметь тамо можно будет» [ПСЗРИ I, 1830. Т. 43. Ч. 1. С. 433]. Согласившись с приведенными доводами, Екатерина II утвердила это предложение. Более того, если бы формирование новых полков и отправка их в Забайкалье были произведены в сжатые сроки, то следовало вообще разорвать контракты с содержателями винокуренных заводов и организовать перевозку вина в Сибирь из Казанской губернии и Вятской провинции, компенсировав им убытки продажей этого вина по завышенным ценам 26.
Своеобразно повел себя в данной ситуации сибирский губернатор Д. И. Чичерин. Еще в марте 1765 г. в своем донесении Камер-коллегии он выступил против запрета на использование хлеба для винокурения в Тобольской и Енисейской провинциях, утверждая, что «нынешним годом поставкою вина из других мест удовольствовать не можно, помешательства ж к заготовлению магазеинов хлебом там быть нынешней год не может, ибо полки и посельщики туда еще до будущаго 1766 году не будут» 27. Камер-коллегия имела неосторожность согласиться с его мнением и даже выхлопотала в июле у Сената дозволение продолжать в Сибирской губернии производство вина. Однако буквально в тот же самый момент выяснилось, что на Сибирь обрушился неурожай.
К концу августа 1765 г. Д. И. Чичерин в панике писал в Сенат: «По городам и дистриктам Тобольской правинции от засух и кабылки, в нынешнее лето бывших, урожай хлеба весьма плох, так что в некоторых местах оной совсем вывалился; по известиям же, полученным им ныне из Исецкой пра-винции, где всегда покупка правианта на полки была, хлеб не родился» 28. При этом губернатор не отказывался от взятых на себя обязательств снабдить продовольствием тех 12 тыс. «польских выведенцев», которые должны были прибыть в Тобольск на протяжении 1765 г. (впрочем, в реальности, как мы отмечали выше, до Сибири добрались чуть более 8 тыс. чел.), но высказывал опасение: «Ежели больше того числа людей еще в Сибирь приумножитца, то в правиан-те великого недостатку опасно». В связи с этим он выражал надежду, что Сенат распорядится отменить свое предыдущее распоряжение (т. е. запретит винокурение), а также временно прекратить отправку в Сибирь ссыльных на поселение и каторжных в работу на рудниках и горных заводах. Кроме того, губернатор предложил командующему Сибирским корпусом генерал-поручику И. И. Шпрингеру самостоятельно организовать снабжение воинских частей, дислоцированных на пограничных линиях, провиантом, закупая его везде, где только возможно, поскольку рассчитывать на обычные поставки из Тобольска в связи с неурожаем уже невозможно 29.
Сенаторы резонно указали Д. И. Чичерину, что сложившуюся ситуацию фактически спровоцировали его же собственные действия – сейчас он «в хлебе там описывает крайнюю нужду, и так де что по недороду хлеба в правианте конечно недостаток быть может, о чем ему, губернатору, и прежде следовало помышлять и всякия впредь мо-гущия быть приключения и опасности своим благоизобретением отвращать», а также потребовали объяснений, «с чего он прежде предусматривал в хлебе там довольство, а ныне, оставя прежнее свое представление, крайнюю в том описывает нужду, и чего ж ради он того заблаговремянно не предостерег» 30. Тем не менее 21 сентября Сенату пришлось отменить свое предыдущее распоряжение о разрешении винокурения и указать: «Тот хлеб, которой бы на курение вина изойти мог, на прокормление людей обратить, и всеми мерами старатца ему, губернатору, тех приведенных людей снабде-вать и до крайняго их без хлеба изнурения отнюдь не довести» 31. Губернатору было предложено купить заготовленный на винокуренных заводах хлеб в казну, а также попытаться получить в свое распоряжение запасы из Исетской провинции и ближайших городов великорусских губерний.
Принятые меры возымели свое действие, и в марте 1766 г. Д. И. Чичерин смог отрапортовать Военной коллегии, что 9 из 12 рот Селенгинского полка уже сформированы и выступили из Тобольска в поход на восток, равно как и три роты Томского (ранее называвшегося Иркутским) пехотного полка, «а две на будущей неделе выступят же» 32. Оставшиеся три роты Селенгинского и семь рот Томского полков доукомплектовывались на протяжении 1766 г., чтобы также отправиться в назначенные им места. Заметим, что Томский пехотный полк переводился уже не в Забайкалье, а на Колыва-но-Кузнецкую пограничную линию. Решение об этом было принято еще в ноябре 1764 г. 33 В начале 1767 г. полк был расквартирован по линии: семь рот – в форпостах и
-
29 См.: ГИАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 134. Л. 340–341.
-
30 РГВИА. Ф. 20. Оп. 1. Д. 709. Ч. 4. Л. 330, 331.
-
31 Там же. Л. 330.
-
32 Там же. Д. 729. Ч. 1. Л. 55.
-
33 Там же. Д. 709. Ч. 1. Л. 318 об.
редутах, пять – в Усть-Каменогорской крепости при штабе командира полка полковника А. Клавера и его непосредственного начальника генерал-майора А. М. Хераскова 34. Селенгинский полк прибыл в Забайкалье осенью 1766 г., где почти половину его личного состава (пять рот) сразу расположили на наиболее слабо защищенных участках границы с Китаем [Быконя, 1985. С. 183; 2007. С. 163, 164]. На сибирской службе Селенгинский и Томский полевые пехотные полки пробыли всего несколько лет и к 1770 г. были выведены из Сибири для участия в шедшей русско-турецкой войне (1768–1774 гг.) [Зуев, Дмитриев, 2012. С. 23].
Итак, наращивание воинских контингентов русской армии в Сибири, предпринятое в середине 1760-х гг., обернулось на деле формированием лишь двух полков (вместо шести) да реорганизацией одного уже существовавшего полка. Какие факторы привели к подобному результату? Обычно исследователи, вслед за А. П. Васильевым, писали о том, что ослабление напряженности в отношениях с цинским Китаем привело Екатерину II и ее военных советников к мысли о возможности сократить размах своих военных приготовлений в Сибири и обеспечить безопасность российских границ в регионе минимальными силами. Изученные нами материалы позволяют скорректировать эти выводы.
Не отрицая того факта, что внешнеполитическая ситуация (нарастание, а затем снижение напряженности в отношениях с Китаем, война с Турцей), а также имперские амбиции, безусловно, влияли на принятие военно-стратегических и тактических решений, следует принимать в расчет и факторы иного порядка. Мы полагаем, что в первой половине 1760-х гг. имели место те же тенденции, что и на протяжении нескольких предыдущих десятилетий, а именно: верховная власть и центральные государственные ведомства в своих планах явно переоценивали людские и материальные ресурсы, которыми они располагали, и пытались реализовать заведомо невыполнимые замыслы, исходя из этих завышенных оценок.
Уже через год после начала процесса перевода в Сибирь «польских выведенцев»
выяснилось, что большинство из них не в состоянии нести военную службу, поэтому не могут быть использованы в качестве контингента для формирования новых полков. Серьезные трудности возникли при поиске источников денежных средств, требовавшихся для полноценного обеспечения этих воинских частей всем необходимым. Организовать доставку вещевого довольствия и оружия из Европейской России удалось далеко не сразу. Наконец, плачевная ситуация с провиантом в 1765 г. отчетливо продемонстрировала, что рассчитывать на значительное приращение армейских контингентов в Сибири нет объективных оснований.
Косвенно эти тенденции свидетельствуют, по нашему мнению, о недостаточном понимании императрицей Екатериной II в первые годы ее царствования специфики положения сибирских территорий в составе империи. Лишь убедившись в том, с какими трудностями приходится сталкиваться при увеличении в Сибири частей регулярной армии, императрица и ее советники стали искать другие способы укрепления обороноспособности границ, сделав акцент на рост численности и реорганизацию сибирского казачества, несшего пограничную службу на юге Сибири. В частности, уже в первой половине 1760-х гг. в Забайкалье были сформированы пять иррегулярных кавалерийских полков из тунгусов и бурят.
Таким образом, исследованный сюжет позволяет сделать вывод о том, что внешнеполитические факторы существенно коррелировались внутренними, прежде всего нехваткой необходимых материальных, а также людских ресурсов. Последнее обстоятельство в значительной степени определяло результаты государственной политики в сфере строительства вооруженных сил на территории Сибири.
THE FORMING OF REGULAR ARMY TROOPS IN SIBERIA BY THE MIDDLE OF 1760s: PLANS AND ACHIEVED RESULTS
Список литературы Формирование подразделений регулярной армии в Сибири середины 1760-х годов: планы и достигнутые результаты
- Андрейчук С. В. Становление Сибирского корпуса: структура, численный состав и принципы дислокации (1745-1771 гг.) // Военно-исторический журнал. 2011. № 3. С. 38-42.
- Андриевич В. К. Исторический очерк Сибири. СПб., 1887. Т. 4.
- Бескровный Л. Г. Русская армия и флот в XVIII веке (Очерки). М., 1958.
- Быконя Г. Ф. Русское неподатное население Восточной Сибири в XVIII - начале XIX вв.: Формирование военно-бюрократического дворянства. Красноярск, 1985.
- Быконя Г. Ф. Казачество и другое служебное население Восточной Сибири в XVIII - начале XIX века (демографо-сословный аспект). Красноярск, 2007.
- Васильев А. П. Забайкальские казаки. Исторический очерк. Чита, 1916. Т. 2. Демин Э. В. Полки селенгинские (Якутский гарнизонный, Селенгинский драгунский гарнизонный, Селенгинский мушкетерский, Селенгинский пехотный) // «Золотая россыпь» Селенгинска: Ист.-краевед. очерки. Улан-Удэ, 2010. Кн. 2. С. 99-119.
- Зуев А. С. Русское казачество Забайкалья во второй четверти XVIII - первой половине XIX вв. Новосибирск, 1994.
- Зуев А. С., Дмитриев А. В. Армейские регулярные части в Сибири в XVIII - начале XIX в.: численность, состав, дислокация // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2012. Т. 11, вып. 1: История. С. 17-29.
- Исупов С. Ю. Динамика изменения численности регулярных воинских контингентов Западной Сибири к началу второй половины XVIII в. // Социокультурное взаимодействие алтайского и русского народов в истории Государства Российского: Тр. Всерос. науч.-практ. конф. (Бийск, 27-30 сентября 2006 г.). Бийск, 2006. С. 163-167.
- Полное собрание законов Российской империи: Собр. I. СПб., 1830. Т. 16; Т. 43. Ч. 1.
- Словцов П. А. Историческое обозрение Сибири. Новосибирск, 1995.