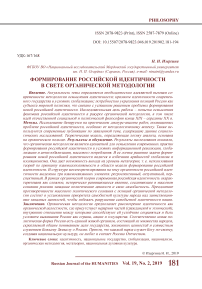Формирование российской идентичности в свете органической методологии
Автор: Изергина Нина Ивановна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 (46), 2019 года.
Бесплатный доступ
Введение. Актуальность темы определяется необходимостью адекватной вызовам современности методологии осмысления идентичности; кризисом идентичности современного государства в условиях глобализации; потребностью укрепления позиций России как субъекта мировой политики, что связано с успешным решением проблемы формирования новой российской идентичности. Исследовательская цель работы - попытка осмысления феномена российской идентичности в ракурсе органической методологии, в том числе идей отечественной социальной и политической философии конца XIX - середины XX в. Методы. Исследование базируется на критическом дискурс-анализе работ, посвященных проблеме российской идентичности, особенно ее методологическому аспекту. Также используются современные публикации по заявленной теме, содержащие данные социологических исследований. Теоретическая модель, определяющая логику анализа, основана на органическом подходе. Результаты и обсуждение. Результаты исследования показали, что органическая методология является адекватной для осмысления современных практик формирования российской идентичности в условиях информационной революции, глобализации и антиглобализации, массового потребления. В ее логике решение задачи формирования новой российской идентичности видится в избегании крайностей глобализма и изоляционизма. Она дает возможность выхода на уровень метатеории, т. е. использования теорий по принципу взаимодополняемости в области модели формирования российской идентичности. В структуре метатеоретизирования на тему органичности российской идентичности выделены три взаимосвязанных элемента: ретроспективный, ситуативный, перспективный. В рамках органической теории современная российская идентичность охарактеризована как сложное, исторически развивающееся явление, соединяющее в массовом сознании россиян западные политические ценности и свою самобытность. Преодоление противоречивости массового политического сознания с позиций органической методологии состоит в установлении приоритета самобытной культуры народа над заимствованиями западных ценностей, чтобы избежать разрушения самобытной идентичности нации. Заключение. Органическая методология предполагает рассмотрение идентичности как органической целостности, где присутствует иерархия частей (гражданской и этнической), внутренние отношения между которыми способствуют ей устойчиво сохраняться и быть условием выживания России как страны, нации и государства. Соответственно новая политическая форма России есть единый живой организм, состоящий из множества народов, скрепляемый общим пониманием цели государства, жизненных ценностей и совместным служением Божьему Замыслу о России. Притом, что каждый народ служит Богу по-своему, создавая национальную культуру, он любит и считает Россию Отечеством.
Идентичность, национальное государство, глобализация, национализм, органическая методология, метатеория, национальная духовная культура
Короткий адрес: https://sciup.org/147218362
IDR: 147218362 | УДК: 167/168 | DOI: 10.15507/2078-9823.046.019.201902.181-194
Текст научной статьи Формирование российской идентичности в свете органической методологии
Формирование российской идентичности есть процесс, который определяется прежде всего сегодняшним состоянием российского общества, включенного в общемировой контекст развития. При этом не подлежит сомнению и влияние на данный процесс национального исторического опыта развития.
Проблема идентичности в теоретическом и практическом значении приобрела особую остроту в позднем СССР и начале 90-х гг. ХХ в. в связи с внутренними системными изменениями в России на фоне глобализации. Одним из важнейших условий трансформации страны считалось ее включение в глобальный мир (мировую капиталистическую систему). Однако это включение происходило достаточно поспешно, неоправданно доверчиво по отношению к ценностям и политике Запада, без должного критического осмысления вытекающих из этого неоднозначных экономических, технологических, военных, культурно-идеологических последствий, отражающихся и на ее идентичности.
Взять хотя бы мировую капиталистическую систему, в которую тогдашние реформаторы хотели «вернуть» Россию. Она представляет собой систему «центр – периферия», и, соответственно, включиться можно либо в ее ядро (метрополию), либо в периферию, в число «придатков» [13]. Сегодня из проводимой Западом политики сдерживания России и усиления давления на нее совершенно очевидно, в какой подсистеме нам отведено место. Поэтому определение модели российской экономики на основе национального опыта во всех его проявлениях (без имитации западной) остается серьезным вызовом нашему внутреннему развитию и нашей субъектности в мире.
Что касается культурных последствий, особенно в этническом срезе, то С. Г. Ка- ра-Мурза пишет о «ликвидации советского народа как особой полиэтнической общности» по двум направлениям – «ослабление и разрушение ядра советской гражданской нации, русского народа, и… разрушение системы межэтнического общежития в СССР и Российской Федерации», что заложило «самые опасные мины под бытие постсоветской России» [13].
Отношение ведущих стран Запада к России преследует цели изменения народного менталитета через внедрение в сознание людей западных ценностей, утверждение западной модели общественно-политического устройства, вытеснения России из Восточной, Юго-Восточной Европы и постсоветского пространства и ее дальнейшее расчленение. Пренебрежительное отношение Запада к национальным интересам России, с одной стороны, способствует укреплению национального самосознания, но, с другой стороны, угрожает превращением его в «неприкрытый национализм» [2, с. 16, 21]. Думаем, правы те исследователи, которые оценивают это включение как «попытку войти в иной проект за счет определенного отказа от собственной субъектности, т. е. идентичности», что привело к расколу советской идентичности «на пятнадцать национальных идентичностей союзных республик… обвальный распад всего “советского мира”» [3, с. 45].
Нынешние реалии свидетельствуют о России как субъекте мировой политики, глобализационном игроке, создающем «центры притяжения в политическом и экономическом пространстве: ОДКБ (1992), ШОС (2001), ЕврАзЭС (2008), БРИКС (2011)» [5, с. 180]. Дальнейшее укрепление этой тенденции обусловлено успешным решением внутренних проблем страны, в том числе проблемы формирования российской идентичности.
Изложенное выше подтверждает потребность в выработке адекватной вызову современности методологии осмысления идентичности в условиях глобализации.
Обзор литературы
С точки зрения цели данной статьи в огромном массиве исследований, посвященных обозначенной теме, особо следует выделить работы, ставящие методологические вопросы о сущности идентичности и судьбе государства как исторической формы социального бытия в условиях глобализации.
Анализ научной литературы показывает, что большинство ученых придерживаются трактовки идентичности как «категории онтологической», которая «неразрывно связана с вопросом существования государства, нации, этноса, отдельной личности» [5, с. 180]. Так, М. К. Горшков и И. О. Тюрина с решением проблем идентичности связывают способность российского государства «отвечать на многочисленные вызовы современности, осуществлять независимую культурную, экономическую, социальную и политическую модернизацию» [3, с. 49]. В этом ракурсе ведется обсуждение проблемы кризиса национального государства как формы государства, сложившегося в Новое время, и высказывается предположение, что будущее в мировой системе будет принадлежать не ему, а импероподобным образованиям (ИПО), представляющим собой «более или менее органичные наднациональные блоки с населением не менее 300–350 млн человек» [21].
Оппонентами данного классического подхода выступают исследователи, определяющие идентичность с позиций постклассической социально-гуманитарной науки, оперирующей такими определениями, как процессность, нелинейность, эмерджент-ность, диссипативность, идентичность, коммуникативность и др. В качестве мето- дологического преимущества этой науки отмечается сочетание «конструктивизма и проективности, единство субъекта и объекта познания, синтез разнородных знаний и познавательных практик» [20, с. 192]. Главный вывод их рассуждений в том, что в глобальном мире усиливается субъективно-личностный фактор в обществе в целом и в сфере политики в частности, включая создание различных идентичностей.
На кризис отечественного и западного обществоведения, не способного верно описать современное общество, указывает С. Г. Кара-Мурза. «Методологическим фильтром механистического детерминизма», «верой в то, что наш мир прост и устроен наподобие математически точной машины» он объясняет то, что обществоведение не осознало симптомов «бунта этничности» конца XX в. [12] и не сформировало «собственную доктрину наци-естроительства – сплочения советского народа в полиэтническую гражданскую нацию и развития системы общежития народов» [13]. В нынешней России, по его мнению, положение не исправляется.
Взаимодействию глобализации и национализма в истории и современности посвящена диссертация Ю. Д. Гранина. Основной вывод данного исследования таков: «процесс глобализации человечества… оказывается превращенной формой государственного национализма ведущих европейских наций, а этнический национализм и изоляционизм, иные типы национализма выступают в качестве противостоящей глобализации контртенденции всемирно-исторического развития» [4]. Полагаем, что этот вывод важно учитывать при разработке национальной программы модернизации и рационального выстраивания отношений с Западом.
Диссертационная работа Г. П. Кузьминой «Идеи органицизма в русской социальной философии» представляет интерес с точки зрения вскрытия положений, особенно востребованных в настоящее время в вопросах поиска естественных форм организации общественных отношений, выхода системы из беспорядка и хаоса за счет взаимодействия и кооперации и др. [16].
Итак, анализ литературы обнаружил наличие различных подходов к сущности и процессу формирования российской идентичности в условиях глобализации, подкрепленных достаточно вескими аргументами. Значит, дальнейшее изучение данной проблемы предполагает уровень метатеоретизирования, т. е. применения теорий по принципу взаимодополняемости.
Материалы и методы
Исследование базируется на критическом дискурс-анализе работ, посвященных проблеме российской идентичности, особенно ее методологическому аспекту. В работе также используются современные публикации по заявленной теме, содержащие данные социологических исследований. Теоретическая модель, определяющая логику анализа, основана на органическом подходе.
Результаты исследования
Теоретизирование по вопросу формирования российской идентичности требует выхода на уровень метатеории и понимания и учета взаимосвязи глобализации и национализма в настоящее время.
Сегодня глобализация проявляется и оценивается двояко. Она обусловливает кризис национальных государств как наиболее распространенной институциональной формы общежития, и глобалисты делают вывод о возникновении «постнационального государства», «сетевого общества» или «глобальной империи». В то же время она вызывает противодействие глобализации этнических, религиозных, культурных, политических и иных движений и организаций, и антиглобалисты по- лагают, что национальное государство не исчерпало исторический ресурс [18].
Кризис национального государства современные исследователи связывают с существованием более десятка различных наднациональных образований (политических, экономических, культурных, спортивных и т. д.), нарушающих государственный суверенитет. Созданная под эгидой ООН «Международная комиссия по вопросам вмешательства и государственного суверенитета» (2000) обосновывает нарушения государственного суверенитета: международное сообщество берет на себя функцию защиты людей, если это не может сделать государство. Согласно доктрине США, борьба с терроризмом – это и борьба с народами и странами, которые, по их мнению, поддерживают терроризм [3, с. 181].
В условиях разрушения государства как одной из конструкций мировой системы, согласно некоторым ученым, единственным шансом России на выживание будет Евразийский союз в качестве альтернативы глобалистскому проекту, «объединения различных систем без утраты ими своего лица» [21]. С последним утверждением можно согласиться при условии, что в им-пероподобных образованиях национальные государства не исчезают и не утрачивают главного предназначения – создавать условия для сбережения и развития национальной духовной культуры [7, с. 8-9]. Характеризуя современную неолиберальную глобализацию как «превращенную форму национализма стран “первого мира”», в этом же ключе рассуждает А. И. Репин: «…вполне реальны национальные формы глобализационных стратегий крупных индустриальных стран , – России, Китая, Индии и др., связанные с отказом слепо следовать рекомендациям МВФ, ВТО и других институтов международного неолиберализма» [18].
В пользу сохранения современного государства говорит факт его приспосабливания к развертывающейся информационной революции и функционирование в качестве информационного, т. е. организованного по модели живого организма, отвергающего жесткий конструктивистский подход в области нациестроительства. Кроме того, оно предполагает перераспределение властных полномочий, подразумевающих соединение политической власти, функционального представительства и общественных организаций. Иначе говоря, оно функционирует на основе взаимодополняемости властно-иерархического и горизонтально-сетевого принципов управления, властной опеки и самоуправления [9, с. 149–150].
Принцип взаимодополняемости применим и в вопросе классического и постклассического подходов к идентичности и сделанных на их базе выводов. Так, акцент на спонтанных и быстротечных синергетических процессах, акторах абберирующей идентичности в рамках постклассического подхода должен дополняться выводом о восполнении разрушения (ослабления) государственных структур и связей приобретением устойчивости на этническом и этноконфессиональном уровнях в рамках классического.
Сторонники постклассического подхода исходят из предельно широкого понимания политики как «деятельности по творению, воспроизводству и регулированию социального пространства-времени (СПВ)» и рассмотрения специфики политического бытия «в общем контексте социальной истории» [20, с. 184]. Они полагают, что в глобальном мире свободного перемещения производственно-технического потенциала с целью нахождения дешевой рабочей силы, «деятельность по проектированию и тиражированию “идентичностей всего и всея” становится ведущим механизмом структурирования социального бытия». Поэтому все, что происходит во всех сферах общества, «формы и механизмы политического бытия общества» предопределяют создаваемые «креативным человеком (личностью, малыми группами) типы идентичности (вещей, отношений, процессов, форм потребления, стилей жизни и горизонтов перспективного развития социума)» [20, с. 189]. Словом, подчеркивается усиление субъективно-личностного фактора в современном сложном, динамично изменчивом остро конкурентном мире. Особо акцентируется «виртуализация бытия» в современных условиях и результативность механизмов влияния «виртуального социума» на власть. Примерами являются «информационные цунами по поводу…» (коррупции, вхождения Крыма в состав России и др.), создаваемые в соцсетях; «виртуальные союзы и фронты борьбы» с тем-то и кем-то; конструирование и организация «умной толпы» («евромайдан», Бирюлево, Манежная площадь, Болотная площадь) [20, с. 191].
На фоне этих реалий перед современной Россией остро стоят вопросы ее обновления при сохранении устойчивости и культурной специфики, формирования новой российской идентичности. Новая российская идентичность не может быть арифметической суммой региональных идентичностей или национально-обезличенным унифицированным формированием в плане языка и культуры. Она может сложиться органически, синтезируя в своей структуре гражданский и этнокультурный элементы. Органичность данного процесса включает ретроспективный, ситуативный и перспективный аспекты. Ретроспективная трактовка органичности новой российской идентичности означает ее соответствие национальному историческому опыту развития. Ситуативное понимание органичности предполагает характеристику эле- ментов российской идентичности и связей между ними, имеющихся в настоящем. Органичность в перспективном осмыслении представляет собой способность быть проектом конструирования будущего. Характер взаимосвязи между обозначенными структурными компонентами состоит в создании будущего, используя прошлое, сосредоточенное в настоящем. Парадигма органического подхода к формированию новой российской идентичности не приемлет жестких преобразовательно-наступательных технологий, но вместе с тем не допускает развития данного процесса самотеком.
Иначе говоря, российская идентичность в рамках органической теории предстает как сложное, исторически развивающееся явление, представляющее собой «ступень национального самосознания» [3, с. 44].
Ретроспектива формирования и развития российской идентичности в современных условиях диктует сохранение своеобразия России как уникального культурно-исторического типа, сформировавшегося под влиянием православного христианства. От христианства воспринята русская идея: главное в жизни – это любовь. Поэтому в национальном сознании россиян важно сберечь представление о государстве, обеспечивающем «братское служение», «единение веры, чести и жертвенности» [7, с. 9]. Современная Россия как национальное государство должна иметь в основе целостную христианскую культуру, затрагивающую нравственную, политическую, хозяйственную, социальную и духовную жизнь человека.
Ситуативное состояние российской идентичности достаточно убедительно демонстрируют результаты социологических исследований. В 2014–2016 гг., согласно исследованиям Института социологии, 74–84 % как русских, так и представите- лей других национальностей считали себя гражданами России. Причем сопричастность гражданам России слабо отличается по возрастным группам и свойственна людям разного образования. Основными интеграторами устойчивой гражданской составляющей российской идентичности выступают общее государство и территория, государственный язык и историческое прошлое [3, с. 49, 50].
Исследования зафиксировали и такой важный факт, как сочетание у большинства россиян гражданской идентичности с этнической идентичностью. Так, 94 % тех, кто чувствует себя гражданином России, ощущают общность с людьми своей национальности. С гражданами России ассоциируют себя 91 % тех, для кого характерна акцентированная этническая идентичность (установка «я никогда не забываю о своей национальности»). Базовыми критериями этнической идентичности являются язык, культура и родная земля. Одновременно исследованиями подтверждается совместимость гражданской и этнической идентичности в рамках российской идентичности [3, с. 51–52].
Отмеченные характеристики сегодняшнего состояния российской идентичности позволяют наметить ее перспективный срез. Проект будущего российской идентичности логично выступает в виде открытой сложной системы, которая, несмотря на изменения внутри нее и на внешние изменения в условиях глобализма/анти-глобализма, сохраняет жизнеспособность, обеспечивая развитие страны в ХХI в. Согласны с теми исследователями, которые признают системообразующим элементом национальной идентичности смысловую целостность как характеристику нации: «изменить идентичность невозможно без отказа от ее главной идеи» [3, с. 47]. Следовательно, будущее российской идентичности неизбежно связано с необходимо- стью понимания высшего смысла бытия России и ее культуры.
Данная проблема в российском научном дискурсе не нова, но всякий раз на переломных этапах развития страны она актуализируется. Именно поэтому всплеск интереса к ней наблюдается в период постсоветского транзита. Наиболее проработана тема русской идеи в религиозно-философском течении русской общественной мысли и особенно в трудах представителей русской православной эмиграции. По признанию М. В. Назарова, одного из ее представителей, «русская эмиграция – часть русской нации, попавшая в необычные условия, которые дали ей уникальный опыт», вобравший в себя «всю полноту мировых событий и идеологий» в силу возможности наблюдать и анализировать «демократический Запад и коммунистическую Россию». Ее суть он определяет как «духовную реакцию» на крупнейшие катаклизмы ХХ в., «осознав их причины и роль России в мировой истории» [17].
Мысль о спасительной роли православия как христианского вероучения является одной из констант в рассуждениях о русской идее. Так, славянофил И. В. Ки-риевский писал: «Все, что препятствует правильному и полному развитию Православия, все то препятствует развитию и благоденствию народа русского, все, что даёт ложное и не чисто православное направление народному духу и образованности, все то искажает душу России и убивает ее здоровье нравственное, гражданское и политическое» [14]. Русская идея осмысливается В. С. Соловьевым как «лишь новый аспект самой христианской идеи», для осуществления которого «нам не нужно действовать против других наций, но с ними и для них» [17]. Трактовка русской идеи как идеи прежде всего религиозной, ориентированной на ком-мюнитарное спасение, когда «все ответ- ственны за всех», как «идеи братства людей и народов» присутствует в философии Н. А. Бердяева [1].
Русскую идею для постсоветской России в ХХ в. сформулировал И. А. Ильин: «Россия восприняла свое национальное задание тысячу лет тому назад от христианства: осуществить свою национальную земную культуру, проникнутую христианским духом любви и созерцания, свободы и предметности» [11, с. 331]. Он рассматривал основополагающие проблемы России в связи с изменениями культурного развития человечества, состоявшими в последовательной дехристианизации всех сфер жизни. Данные тенденции в российском обществе привели к революции, атеизации советского строя, распаду страны. Выступая против всякой денационализации, возрождение и обновление России в постсоветский период философ связывал с обновлением национальной идеи, в центре которой должны находиться духовный патриотизм и духовный национализм [7, с. 6, 8; 15, с. 613].
«В наше все более смутное время гибридной Мировой войны» (выражение М. В. Назарова) только на путях неискаженного, духовного патриотизма и национализма можно удержаться от окончательного скатывания в разрушающее потребительство, чтобы продолжить природой и историей предписанный России православный путь. Безусловно, чтобы такой выбор в национальном сознании россиян осуществился, нужны творческие конструктивные усилия в области духовного обновления России со стороны государства, бизнеса и гражданского общества.
Жизнеспособность российской идентичности зависит от сохранения и верного соотношения ее гражданского и этнокультурного структурных элементов на основе принципа взаимодополняемости в конкретно-исторических условиях.
Обсуждение и заключение
Развитие России в настоящее время осуществляется в условиях развертывания информационной революции, глобализации и антиглобализации, массового потребления. На фоне этих реалий остро стоят вопросы ее обновления при сохранении устойчивости и культурной специфики, формирования нового качества российской идентичности. В логике органической теории решение этой задачи видится в избегании крайностей глобализма и изоляционизма.
Это означает, что в глобальном (едином) человечестве Россия не может и не должна «отказаться от… исторически и религиозно заданной нам культуры духа, воли и ума». При этом «наше национальное призвание» состоит в том, чтобы, сохраняя первичную роль в русской культуре сил «сердца», «созерцания», «свободы» и «совести», вырастить ее вторичные силы – «волю, мысль, форму и организацию» [11, с. 327, 329]. Только в этом случае в современной «битве идентичностей» Россия не исчезнет, но будет продолжать творить свою культуру как христианское и национальное объединение многочисленных народов, исторически составляюших ее население, патриотически преданных Отечеству и единому для всех граждан закону [15, с. 623].
Правильность такого суждения подтверждают сохраняющаяся иерархия народов и наций и обостряющиеся противоречия между ними в современном мире, а также рост разных национализмов в рамках антиглобализационных тенденций, раздражение наплывом инокультурных иммигрантов, который даже в США воспринимается как угроза национальной идентичности. Об этом же свидетельствует жесткое отстаивание национальных интересов своих народов и корпораций в любой точке мира главными глобализато- рами – США, Великобританией и другими ведущими странами Запада.
В контексте изложенного можно заключить: попытки унификации, культурного обезличивания народов есть посягание на естественный ход истории, источник ее самодвижения в соответствии с божественным замыслом, постичь который до конца человеку вряд ли по силам, во всяком случае сегодня. Вместе с тем лучшими умами человечества сформулирована идея целостности мира, общества и человека в их душевно-духовном и материальном измерении. Целостность, по мысли И. А. Ильина, это когда земное «как» не подавляет небесное «что» и «зачем» [10, с. 190].
В настоящее время о расколотости мира, о дисгармонии человека пишется много. Так Г. Н. Дульнев отмечает, что «человек в этом мире – это какая-то биологическая машина, движимая инстинктивными интересами звериной природы», что в нем «нет подлинного признания высших ценностей духовной пробужденности, чувства любви, стремления к справедливости, эстетической потребности» [6]. Ясно, что равнодушный к так называемым «вечным» вопросам, не различающий добра и зла, не овладевший достижениями национальной духовной культуры, не способный личное подчинять общему делу, бездуховный человек не может быть органичным субъектом процесса формирования качественно новой российской идентичности. Все эти свойства сознания не появляются ниоткуда, их необходимо систематически формировать. Причем не посредством множества разрозненных мероприятий, а построением новой национальной системы воспитания, которую «мы так и не построили» [22, с. 17].
Портрет политического сознания российского общества, сложившийся на протяжении последних 25 лет, отражен в результатах исследования образов власти и политиков, который проводится с 1993 г. В целом политическое сознание российского общества оценивается как «запутанное и противоречивое», не адаптированное к «новым реалиям», причиной чего является «двойственность российского политического процесса». Двойственность проявляется в двух основных тенденциях трансформации постсоветского общества: 1) «усвоение массовым сознанием заимствованных на Западе политических ценностей, образа жизни и культурных образцов»; 2) «поиск своих корней, сохранение самобытности и традиций». Очень значимым с точки зрения дальнейшего формирования российской идентичности является вывод, что «для России – сохранение самобытности является условием выживания – и как для страны, и как для нации, и как для государства» [22, с. 13, 19].
Этот вывод вполне укладывается в понимание идентичности в свете органической теории, в которой четко различаются и иерархически выстраиваются политическая форма (демократия, первая тенденция) и смысл, которому она служит (самобытная культура народа, вторая тенденция).
Без приоритета смысла российская идентичность не сможет приобрести системно-целостный характер.
В данном контексте важно обратить внимание на следующие моменты.
Формирование качественно новой российской идентичности есть не то, что можно и нужно исключительно спроектировать и сконструировать, но прежде всего - возвращение к национальной органической традиции, которая подверглась радикальной трансформации в революционно-советский период и в период 1990-х гг. Элементами национальной традиции являются органическое любовь (желание «совершенного качества»), созерцание («духовное видение), свободо- любие народа и приверженность национально-религиозному своеобразию при терпимости к представителям иной веры и национальности, предметность (верное выражение Божественного) [8, с. 22].
Следовательно, формируя новую российскую идентичность, невозможно игнорировать, а тем более подавлять, этническую идентичность. Ее необходимо включить на принципе синергии с гражданской идентичностью в созидательные процессы строительства новой России, способной защищать самобытную культуру и создавать условия для ее развития, служа тем самым национальному призванию и общекультурному человечеству. Этнические идентичности – это те самые «множества» в единстве, которое в свою очередь есть их соединение через форму, обеспечивающую перевес центростремительных тенденций над центробежными, например, вследствие политизации этнич-ности.
Это означает, что вопрос о политической форме не индифферентен к формированию российской идентичности. На это указывает также сущность культуры, заключающаяся в единстве духовного содержания и совершенной формы. Учитывая двойственность современного российского политического процесса, можно заключить, что новая политическая форма должна быть подвижной, приспосабливаться к быстрым внутренним и внешним изменениям. Она должна складываться не путем копирования чужих образцов, но органически вбирая в себя жизнеспособное из разных форм на основе взаимодополняемости. Соотношение в ней элементов разных форм должно соответствовать задачам, стоящим перед современной Россией, связанным с продолжением резкого «разворота в сторону глубинных национальных традиций и интересов» [22, с. 19], начатого в 2010-х гг.
Какие бы конкретные контуры ни приняла новая политическая форма России, в ней должны органично сочетаться свобода и властно-правовой порядок, инновации и историческая преемственность, чтобы сохранять и развивать национальную культуру на базе уникальных духовных достижений и возможностей каждого из ее народов.
Итак, органическая методология предполагает рассмотрение идентичности как органической целостности, где присутствует иерархия частей (гражданской и этнической), внутренние отношения между которыми способствуют ей устойчиво сохраняться и быть условием выживания России как страны, нации и государства.
Соответственно, новая политическая форма России есть единый живой организм, состоящий из множества народов (этносов), скрепляемый не только общим пониманием цели государства и жизненных ценностей, которые могут быть преимущественно материально-экономическими, но совместным служением Божьему Замыслу о России. Притом, что каждый народ служит Богу по-своему, создавая свою национальную культуру, он любит и считает Россию Отечеством.
Список литературы Формирование российской идентичности в свете органической методологии
- Бердяев Н. А. Русская идея: основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века . -URL: http://philologos.narod.ru/berdyaev/berd-rusidea.htm.
- Галкин А. А. Национальное самосознание как источник ценностных и политических мотиваций//Полития. -2015. -№ 1. -С. 7-23.
- Горшков М. К., Тюрина И. О. Синтез этнонационального и гражданского как основа российской идентичности//Вестник РУДН. Серия: Социология. -2018. -Т. 18. -№ 1. -С. 44-57.
- Гранин Ю. Д. Глобализация и национализм: история и современность. Социально-философский анализ: дис.. д-ра философ. наук: 09.00.11/Ин-т философии РАН. -М., 2008. -
- с.. -URL: http://www.dslib.net/soc-filosofia/globalizacija-i-nacionalizm-istorija-i-sovremennost-socialno-filosofskij-analiz.html.
- Дзахова Л. Х., Малиева Т. И. Этнос, нация, государство как категории идентичности//Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. -2014. -№ 3. -С. 179-184.
- Дульнев Г. Н. Роль синергетики в формировании нового мышления . -URL: https://вседуховное.рф/дульнев-г-н-роль-синергетики-в-формир/.
- Изергина Н. И., Изергина В. П. Идеология нациестроительства И. А. Ильина: концептуальный аспект//Центр и периферия. -2018. -№ 4. -С. 4-9.
- Изергина Н. И. Путь России к демократии: взгляд И. А. Ильина и современность. -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2008. -208 с.
- Изергина Н. И. Теория органической демократии И. А. Ильина и политическая трансформация постсоветской России. -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2008. -192 с.
- Ильин И. А. Кто мы? О революции. О религиозном кризисе наших дней: собр. соч. -М.: Русская книга, 2001. -576 с.
- Ильин И. А. Наши задачи: в 2 т. Т. 1. -М.: МП "Papor", 1992. -344 с.
- Кара-Мурза С. Г. Кризисное обществоведение. Курс лекций. Ч. 1 . -URL: https://www.libfox.ru/623821-2-sergey-kara-murza-krizisnoe-obshchestvovedenie-chast-pervaya-kurs-lektsiy.html#book.
- Кара-Мурза С. Г. Кризисное обществоведение. Курс лекций. Ч. 2 . -URL: https://www.libfox.ru/626326-9-sergey-kara-murza-krizisnoe-obshchestvovedenie-chast-vtoraya-kurs-lektsiy.html#book.
- Киреевский И. В. Письмо А. И. Кошелеву, окт.-ноябрь 1853 г.//Киреевский И. В. Полное собрание сочинений. Т. 2 . -URL: http://www.odinblago.ru/kireevski_t2/p30.
- Кудрявцев В. А., Лось Е. В. Теоретический потенциал и роль государственно-правовых взглядов И. А. Ильина в отечественной истории социологии//Вестник РУДН. Серия: Социология. -2018. -Т. 18. -№ 4. -С. 613-626.
- Кузьмина Г. П. Идеи органицизма в русской социальной философии: дис.. д-ра философ. наук: 09.00.11/Чуваш. гос. ун-т им. И.Н. Ульянова. -Чебоксары, 2007. -297 с. . -URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01003056427#?page=1).
- Назаров М. В. Опыт Русского Зарубежья и всемирное призвание России . -URL: https://rusidea.org/6038.
- Репин А. И. Концептуальные предпосылки идеи глобализации в отечественной философии истории: дис.. канд. философ. наук: 09.00.11/Сам. гос. ун-т. -Самара, 2009. -156 с. . -URL: http://www.dslib.net/soc-filosofia/konceptualnye-predposylki-idei-globalizacii-v-otechestvennoj-filosofii-istorii.html.
- Соловьев В. С. Русская идея . -URL: http://az.lib.ru/s/solowxew_wladimir_sergeewich/text_1888_lidee_russe.shtml.
- Тхагапсоев Х. Г., Черноус В. В. К поискам новой парадигмы политической науки: когнитивный ракурс//Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. -2015. -№ 2. -С. 184-194.
- Фурсов А. Наступает эпоха новых империй . -URL: http://www.svpressa.ru/society/article/51739.
- Шестопал Е. Б. Проект длиною в четверть века. Исследование образов власти и лидеров в постсоветской России (1993-2018)//Полис. -2019. -№ 1. -С. 9-20.