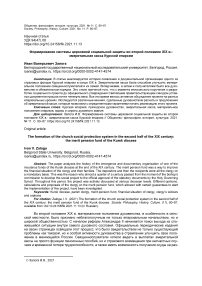Формирование системы церковной социальной защиты во второй половине XIX в.: эмеритальная касса Курской епархии
Автор: Иван Валерьевич Залога
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 11, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется история появления и документальной организации одного из страховых фондов Курской епархии в конце XIX в. Эмеритальная касса была способом улучшить материальное положение священнослужителей и их семей. Вкладчиками, а затем и получателями было все духовенство в обязательном порядке. Это стало причиной того, что с момента епископского поручения о разработке социального проекта до официального утверждения Святейшим правительствующим синодом уставных документов прошла почти четверть века. Все это время велось активное обсуждение проекта на разных епархиальных уровнях. Исследуются различные мнения, сделанные духовенством расчеты и предложения об эмеритальной кассе, которые позволили с определенными гарантиями начать реализацию этого проекта
Курская епархия, приходское духовенство, эмеритальная касса, материальное положение клириков, вдовы и сироты духовного звания
Короткий адрес: https://sciup.org/149136612
IDR: 149136612 | УДК: 94(47).08 | DOI: 10.24158/fik.2021.11.13
Текст научной статьи Формирование системы церковной социальной защиты во второй половине XIX в.: эмеритальная касса Курской епархии
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород, Россия, ,
,
личные текущие нужды. Еще одним актуальным вопросом была обеспокоенность о вдовах и сиротах духовного звания. В проекте положения об эмеритальной кассе были многогранно отражены гарантии сохранения вкладов, а следовательно, и выплат всех категорий. Анализируя разнообразные источники и используя историко-генетический метод, мы рассмотрели причины появления социальных проектов и дальнейшее изменение содержания уставных документов эмеритальной кассы духовенства Курской епархии. Сравнительно-исторический метод был использован при исследовании общих и частных особенностей этого проекта в сравнении с уже существующими в других епархиях. Нарративный метод помог проанализировать содержание тематических статей в официальном епархиальном печатном издании.
Современная историография представлена немногими исследованиями, посвященными социально-экономической характеристике духовенства. В этих трудах в разной степени освещен вопрос о материальном положении духовенства в конце XIX в. и поисках выхода из кризиса. Особый интерес представляют работы Ю.И. Белоноговой (2010), С.А. Иконникова (2018), А.В. Куль-читцкого, А.В. Курцева (2011), Т.Г. Леонтьевой (2002). Однако в целом вопросы материального положения, а также история страхового и пенсионного обеспечения приходского духовенства на региональном уровне изучены недостаточно.
Известный богослов, выходец из семьи священнослужителя Н.Н. Глубоковский в свое время сказал, что русское духовенство было одинаково «велико своими службами и своими нуждами» (Глубоковский, 1917: 3). В Курской епархии впервые об эмеритальной кассе заговорили в конце 60-х гг. XIX в. Весной 1869 г. Курской духовной консисторией был издан Указ № 2647, в котором протоиерею Н. Булгакову как благочинному города Курска поручалось составить текст проекта епархиальной эмеритальной кассы1. Через полтора года протоиерей Николай предоставил итоги своей работы, и духовная консистория распорядилась обсудить данный документ в благочиниях. Для этого всем благочинным Курской епархии необходимо было познакомить духовенство с текстом проекта эмеритальной кассы и собрать комментарии2.
В епархиальном официальном печатном издании «Курские епархиальные ведомости» одновременно была опубликована статья, в которой в краткой форме давалась справочная информация о реализуемом новом проекте. В частности, пояснялось, что эмеритальная касса учреждалась по благословению и при непосредственном покровительстве епархиального начальства. Основная задача состояла в том, чтобы сформировать дополнительные пособия и пенсии церковно- и священнослужителям, их вдовам и детям-сиротам. Эти выплаты производились бы для всех независимо от уже получаемых пособий из епархиального попечительства или пенсий по духовному ведомству и составляли бы дополнительный источник материальных средств3.
Сам текст проекта эмеритальной кассы протоиерея Н. Булгакова также был размещен на страницах «Курских епархиальных ведомостей» для удобства знакомства с ним духовенства4. Здесь же поместили сведения о том, что протоиерей Николай использовал «Положение об эмеритальной кассе Санкт-Петербургской епархии» в качестве образца для составления своего документа.
Одним из способов привлечения вкладчиков для эмеритальной кассы стало то, что размер будущих выплат можно было планировать самому. Именно от этого выбора и зависели бы последующие ежегодные взносы, по крайней мере в течение первых пяти лет. Этот срок предлагался как необходимый минимум для формирования дееспособного основного капитала эмеритальной кассы.
Так, для получения пособия в размере 60 р. необходимо было вносить по 18 р. в год в течение, как было уже сказано, пяти лет. Для пенсии в размере 40 р. – 12 р. в год, 20 р. – 6 р., 8 р. 75 к. – 3 р. Таким образом, проектом эмеритальной кассы Курской епархии определялись четыре размера ежегодных взносов и величина пенсионного пособия, прямо пропорционально зависящая от них.
Однако, согласно тесту этого документа, на размер выплачиваемого пособия влиял состав семьи. Так, самому вкладчику, ушедшему за штат согласно выслуге лет по церковному каноническому праву, пособие выплачивалось в полном размере. Полная сумма выдавалась и вдове с четырьмя малолетними детьми либо круглым сиротам, если их в семье было четверо. А вот вдове с тремя детьми пособие выплачивалось в меньшем размере и еще меньше вдове, если детей у нее не было. Самая минимальная пенсия была назначена круглому сироте – единственному ребенку в семье. Все размеры выплачиваемых пособий по четырем разрядам за первое пятилетие представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Методика расчета размера пенсии вдовам и сиротам православного духовенства Курской епархии согласно «Уставу эмеритальной кассы духовенства Курской епархии» 1871 г.
|
Размер регулярных взносов, р. |
Размер пенсии, р. |
|||||
|
£ i S £ _ f * ф £ 05 о CL 3 ° ° о S Ф s q О О |
er о 05 о аз |
1 О CM о 5 CO 1 о CO |
5 О о 05 О co |
CM 05" О er 5 1 g- H ° Ф Ct Ф LD |
05 o s о |
|
|
18 |
60 |
55 |
50 |
45 |
40 |
20 |
|
12 |
40 |
35 |
30 |
24 |
20 |
8,75 |
|
6 |
20 |
17,50 |
15 |
12,50 |
8,75 |
5 |
|
3 |
8,75 |
7,50 |
7,50 |
6,25 |
5 |
3 |
Необходимо отметить, что в таблице 1 показаны все суммы выплат после первых пяти лет регулярных вкладов. В дальнейшем через каждые пять лет внесения взносов размер выплат увеличивался, к примеру, тем, кто делал взносы по высшему разряду 18 р. в год, после десяти лет была бы назначена пенсия в размере 80 р.
В 1871 г. на страницах «Курских епархиальных ведомостей» была опубликована статья Г. Вознесенского под названием «К вопросу об учреждении эмеритальной кассы в Курской епар-хии»1. Эта статья являлась одним из ярких индикаторов всех тех настроений, которые появились вокруг предложения реализовать новый проект в епархии. Поэтому вполне естественным было то, что автор первым делом ставил задачу ответить читателю на самые актуальные и острые вопросы. Это объяснило повторное рассмотрение общих целей и задач эмеритуры на страницах «Курских епархиальных ведомостей». Учитывая различный образовательный уровень читателя, достаточно простым языком автор объяснял необходимость такого фонда в епархии и описывал обеспокоенность епархиального начальства вопросом улучшения материального положения семей духовенства.
О существующем в XIX в. остром вопросе весьма стесненного материального положения штатного духовенства свидетельствовало создание в Российской империи Присутствия по делам православного духовенства, которое должно было собрать сведения о состоянии быта духовен-ства2. Согласно источникам, семья священника зачастую жила в приходском доме – помещении, приписанном к храму3. Не всегда и не у всех в духовном сословии была возможность обзавестись личной жилой собственностью. Приходской дом, как правило, переходил из поколения в поколение: на место отца приходил сын или зять. Поэтому детям всегда старались дать соответствующее образование: для сыновей это была семинария, а для дочерей – училище.
Основными источниками средств к существованию у духовенства всегда были богослужебные требы и земля храма. Требы – это основная обязанность священнослужителя, заключающаяся в удовлетворении религиозных потребностей общества. Крестины, погребение, освящение – все это сопровождалось пожертвованиями священнику. Размер платы чаще всего был не фиксированным, а добровольным, отчего священнику зачастую нужно было просить об оплате или вступать в спор ее размере (Иконников, 2018: 23). Другим источником доходов духовенства была земля. Однако здесь тоже все не просто. С одной стороны, земли всегда хватало, чтобы прокормить многодетную семью и не бедствовать. С другой стороны, если священник будет заниматься обрабатыванием земли, ему не хватит времени для исполнения своих прямых пастырских обязанностей: совершать богослужения, требы, учить в школе и др. Супруга нянчится с малыми детьми, старшие – пристроены в образовательные учреждения, поэтому земля чаще всего была запущенной. Были варианты, когда землю сдавали в аренду, но плата была очень мала. Поэтому материальные трудности приходского духовенства были очевидны и для правящего архиерея, и представителей широкой общественности (Ершов, 2011: 69–70).
Самой незащищенной в материальном плане категорией были заштатное духовенство, вдовы и сироты духовного сословия. Потеря или временная нетрудоспособность кормильца в буквальном смысле лишала семью всего. Новый назначенный священник должен был поселиться в приходском доме. Совершение богослужений и треб, являющихся основным источником средств, тоже становилось только его прерогативой. Конечно, среди источников можно найти свидетельства милосердного и сострадательного отношения священников к семьям своих пред-шественников1. Однако так было не всегда. Зачастую нужно было становиться в длинную очередь на получение пенсии из казны, которую начинали начислять только через несколько лет (Кульчитцкий, Курцев, 2011: 181). Известно, что в 1860-х гг. в Курской епархии уже было 912 вдов и 869 сирот духовного звания2.
В статье Г. Вознесенского были высказаны несколько рекомендаций к проекту эмеритальной кассы. В частности, предлагалось использовать благотворительную систему в противовес предложенной Н. Булгаковым банковской. Как объяснил сам автор, это помогло бы использовать накопленные средства сразу же, а не по истечении какого-то срока. К тому же многие из духо обязательное членство, потому что страховала б венства хотели бы иметь возможность взять ссуду. Такая «опция» помогла бы безболезненно оправдать ы от многих кризисных ситуаций: неурожая и голода, пожара, болезни или травмы, а также давала возможность получить средства на обучение или свадьбу детей3. Конечно, такие страховые функции не отменяли и основной задачи эмеритальной кассы – накопления и дальнейшей выплаты пенсий пожилому и заштатному духовенству, их вдовам и сиротам.
Вторая часть статьи Г. Вознесенского была посвящена описанию истории создания и принципам работы эмеритальной кассы в других епархиях. Это показывает профессионализм автора: он нашел возможность всесторонне изучить этот вопрос, чтобы сделать соответствующие выводы для своего региона. Изучался опыт Санкт-Петербурга, Москвы, Тулы, Риги, Пензы, Орла, Чернигова, Саратова. Не известно, были ли это случайно выбранные епархии, или они были выбраны потому, что к их документам у автора был доступ, или, может быть, именно в этих регионах проявились какие-то интересные особенности, однако в каждой епархии было что-то привлекательное. Так, Г. Вознесенский в Тульской епархии выделил благотворительную систему накоплений. По его мнению, это был самый удачный проект. В Московской епархии использовалась другая система, которую автор назвал «банковской». В Санкт-Петербургской епархии выплаты пособий производились в полном фиксированном размере и не зависели от состава семьи. В Рижской и Пензенской епархиях вдовы и сироты могли получать выплаты при незначительном основном капитале, не было обязательного минимального срока членского участия. В Рижской епархии дополнительно могла производиться выдача ссуд и безвозвратных пособий. Все эти примеры не только описывали возможности эмеритальной кассы, но и давали представление о том, что ожидало от нее духовенство4.
Если эти примеры все еще не вызывали доверия и положительной мотивации у духовенства реализовать в Курской епархии эмеритальную кассу, то следующие сведения, по мнению Г. Вознесенского, наверняка должны были это сделать. Один из преподавателей Курской семинарии сделал математическую выкладку. Используя примерные статистические данные по смертности и несложные арифметические операции, он посвятил целый разворот «Курских епархиальных ведомостей» доказательству того, что эмеритальная система накоплений может самостоятельно существовать без дополнительных денежных вливаний5.
Еще одним предложением было пожелание открыть в губерниях пять филиалов, которые обслуживали бы сразу несколько уездов. Это было продиктовано здравым смыслом и практической необходимостью, когда поездка в город Курск для каждого священнослужителя была связана с определенными транспортными и материальными трудностями. Во всех уездных филиалах Г. Вознесенский предлагал создать необходимые условия для удовлетворения всего спектра услуг эмеритальной кассы: приема взносов, выдачи ссуд, страховок и пенсий, приема отчетов от благочинных, заявок на новых пенсионеров и помощь погорельцам, а также заказа ссуд на следующий год6.
Еще одно мнение было высказано О.И. Поповым от духовенства первого городского благочиния города Курска. Здесь для составления проекта епархиальной эмеритальной кассы новым было пожелание добровольности членства и предложение разделить фонды для накопления пенсий и для выдачи ссуд, а также сделать коллегиальное управление фонда выборным на определенный срок. Особо была подчеркнута необходимость четкости формулировки всех условий членства. Духовенство требовало, чтобы были прописаны все права, гарантирующие пособия для их вдов и детей-сирот. Как и Г. Вознесенский, О.И. Попов немало слов посвятил описанию актуальности и острой необходимости этого проекта для региона и, конечно, тоже дал статистические и арифметические выкладки1.
В следующий раз к теме учреждения в епархии эмеритальной кассы возвратились через пять лет – в 1876 г. Возможно, это было связано с осознанием епархиальным начальством необходимости такого фонда для духовенства и их семей. Поэтому вновь на страницах «Курских епархиальных ведомостей» появляется справочная информация об эмеритальной кассе, ее целях и задачах. Упоминался и отзыв обер-прокурора Святейшего синода от 1808 г., где отмечалась особая важность этого проекта для государства2. Интересно, что из всех предыдущих замечаний об эмеритальной кассе многое осталось без изменений. Так, было оставлено обязательное участие всего штатного духовенства епархии, для формирования основного капитала фонда принимались безвозмездные добровольные пожертвования. Новым можно было считать то, что сумма взносов зависела от размера жалованья, а пенсия – от занимаемого сана.
В 1876 г. духовенству был представлен новый проект устава эмеритальной кассы. Священник Е. Базиленский наполнил его ссылками на Святое Писание и включил все высказанные когда-то пожелания и замечания3. После публикации новой информации об эмеритуре епископ Сергий (Ляпидевский) подписал распоряжение о том, чтобы вопрос об учреждении в Курской епархии эмеритальной кассы был внесен в повестку общего собрания духовенства в сентябре 1876 г.4. Тема осталась открытой до 1879 г., потому что епископ Сергий (Ляпидевский) снова распорядился рассмотреть и окончательно решить вопрос об учреждении в епархии эмеритальной или ссудной кассы5.
Итогом июньского съезда духовенства епархии 1879 г. было составление и утверждение «Устава ссудо-эмеритальной кассы духовенства Курской епархии». Он отличался от самого первого проекта священника Н. Булгакова дополнительной главой «О ссудах», в которой описывались все условия выдачи денежных средств. Всеобщее обязательство членства штатного духовенства осталось неизменным. Взносы и дальнейшие выплаты производились по трем разрядам. Минимальный срок участия в составлении фонда был сокращен до пяти лет. Соответственно, после этого назначались выплаты пенсий для тех, кто вносил в год: 5 р.– 25 р., 10 р. – 45 р., 15 р. – 70 р. На размер выплат не влиял состав семьи, как это было в предыдущих проектах6.
Епископ Сергий (Ляпидевский) распорядился подготовить текст «Устава ссудо-эмеритальной кассы духовенства Курской епархии» для представления его Святейшему синоду. Резолюция обер-прокурора Святейшего синода была датирована маем 1882 г. И только в октябре 1883 г в «Журнале Курского епархиального съезда депутатов» было отмечено, что для исправления всех замечаний создана специальная комиссия в составе священников М. Федорова, Н. Пономарева и А. Виноградова7. Таким образом, после десяти лет обсуждения возможных проектов эмеритальной кассы духовенства, споров о формулировках и направлениях деятельности «Устав ссудо-эмеритальной кассы духовенства Курской епархии» был принят на епархиальном уровне. Однако после тщательной проверки он был отправлен на доработку.
Вопрос об эмеритальной кассе снова поднимается при новоназначенном епископе Иустине (Охотине), известном своей благотворительностью (Озеров, 2019: 26–27), в повестке дня епархиального собрания духовенства в апреле 1889 г. Здесь не обсуждался текст документа, а, что интересно, говорилось о необходимости срочной реализации этого проекта1. Уже в следующем месяце епископ Иустин (Охотин) передал в фонд епархиальной эмеритальной кассы 1 000 р2.
Однако в «Отчете Курского епархиального Попечительства о бедных духовного звания» за 1890 г. в разделе «Эмеритура» было отмечено, что на счете находится только 1 807 р.: 1 000 р. – от епископа Иустина (Охотина), 235 р. – от уездного благочинного священника И. Крупецкого, 550 р. – от старооскольского священника И. Калистратова. Оставшиеся 22 р. были начисленными процентами со всех взносов3. Эта же сумма была отмечена в отчете и за 1891 г.4. Это означало, что вопрос об учреждении в епархии эмеритальной кассы все еще оставался открытым. Здесь можно выделить несколько причин. Во-первых, Святейший синод все еще не утвердил «Устав ссудо-эмеритальной кассы духовенства Курской епархии», поэтому его преждевременная реализация духовенством воспринималась подозрительно. Во-вторых, весьма понятно и желание епархиального архиерея, который хотел выиграть время, чтобы капитал фонда уже начал накапливаться, пока шла канцелярская работа. Однако для духовенства такое распоряжение епископа не являлось гарантией того, что деньги сохранятся, тем более не было определенности и в сроках утверждения этого документа. Одно дело – правительственное распоряжение, а другое – архиерейское. Отметим, что речь идет о том времени, когда у приходского духовенства не просто не было «свободных» денег, а многие сельские священники находились на грани нищенства.
Ситуация поменялась, когда Определением Святейшего синода № 1090 от 21 апреля – 1 мая 1895 г. «Устав эмеритальной кассы духовенства Курской епархии» был утвержден5. Согласно этому документу, эмеритальная касса уже не предполагала выдачи ссуды, как это было в предыдущем проекте, а была направлена исключительно на выдачу пенсий вдовам и сиротам духовенства епархии и собственно священнослужителям по выходе за штат по выслуге лет. Участие в проекте было обязательным для всего штата священно- и церковнослужителей Курской епархии. Как видно, не все замечания, которые были предметом обсуждения на собраниях духовенства в течение двадцати лет, были учтены и реализованы. Кроме того, со стороны епархиального управления и в соответствии с их видением общего блага к уклоняющимся от взносов применялись «принудительные меры властей»6.
Относительно упоминаемых гарантий в «Уставе эмеритальной кассы духовенства Курской епархии» было прописано, что весь капитал фонда являлся общественной, неприкосновенной и неотъемлемой собственностью духовенства Курской епархии. Это означало, что все средства могли быть использованы только для выплат по назначению. Ни о каких займах или ссудах под какие-либо проценты и специальные гарантии не могло быть и речи. Деньги предназначались только для выплат начисленного пособия.
Другим важным моментом для создания определенных гарантий было и положение о том, что в случае прекращения деятельности эмеритальной кассы в силу различных причин и обстоятельств все вкладчики получали вложенные деньги вместе с накопленными процентами. Если к этому времени священнослужитель умирал, то эту сумму получали его вдова или дети. Эти положения «Устава эмеритальной кассы духовенства Курской епархии» полностью гарантировали сохранность всех денег даже с учетом инфляции. Не менее важным в эмеритальной кассе для духовенства было условие, что выплаты начислялись и выдавались вкладчикам независимо от получаемой пенсии и пособий. От первого проекта священника Н. Булгакова сохранилось то, что этот фонд был самостоятельным и независимым.
Основные требования духовенства также были учтены. Так, размер взносов делился на семь разрядов, которые необходимо было регулярно вносить в течение десяти лет. Для священников и диаконов наименьшим взносом был шестой разряд, т. е. 10 р. в год, а для псаломщиков – седьмой, т. е. 5 р. в год. Соответственно и выплаты были наибольшие у первого разряда – 90 р. в год для тех, кто вносил по 60 р., и 7,5 р. – для самого низшего седьмого разряда.
Пособия выдавались самому вкладчику или его осиротевшему семейству. Во второй главе «Устава эмеритальной кассы духовенства Курской епархии» были четко сформулированы определенные условия для этого. Относительно самого вкладчика было сказано, что он лишается выплат в случаях принятия монашества, или лишения сана по решению церковного суда, или личному желанию. Однако его сбережения переписываются «не пристроенному семейству». Вдовы священнослужителей могут рассчитывать на пенсию пожизненно, если повторно не выйдут замуж. Также и дочери духовенства получали пособие пожизненно, если не выходили замуж. Для сыновей-сирот правом пожизненного обеспечения из эмеритальной кассы могли пользоваться только инвалиды при условии, что их хронические и неизлечимые заболевания, препятствующие поступлению на какую-либо службу, подтверждены врачом.
Кроме того, «Уставом эмеритальной кассы духовенства Курской епархии» разрешалось благотворителям и благотворительным обществам вносить в пользу выбранного лица пожертвования, которые в этом случае засчитывались священнослужителю очередным взносом.
Эмеритальная касса была одним из способов изменить к лучшему материальное положение духовенства и их семей. Это было очевидным для епархиального начальства и большей части священнослужителей. Основной трудностью являлось наличие «свободных» денег, необходимых и обязательных для членства. Вокруг этого вопроса и происходили многолетние споры и прения, поэтому епархиальное начальство сделало все необходимое, чтобы реализация проекта эмеритальной кассы стала возможной.
Список литературы Формирование системы церковной социальной защиты во второй половине XIX в.: эмеритальная касса Курской епархии
- Белоногова Ю.И. Приходское духовенство Московской епархии и крестьянский мир в начале ХХ века (по материалам Московской епархии). М., 2010. 175 с.
- Иконников С.А. Учреждение эмеритальных касс в епархиях Центрального Черноземья во второй половине XIX века: к истории вопроса // Манускрипт. 2018. № 6 (92). С. 22–26.
- Кульчитцкий А.В., Курцев А.Н. Пенсионное обеспечение российского духовенства в середине XIX столетия – 1917 г // Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 2 (35). С. 181–187.
- Леонтьева Т.Г. Вера и прогресс: православное сельское духовенство России во второй половине XIX – начале ХХ в. М., 2002. 253 с.
- Глубоковский Н.Н. Православное русское белое духовенство по его положению и значению в истории. Петроград, 1917. 16 с.
- Ершов Б.А. Семейные основы жизни священнослужителей в губерниях центрального Черноземья в XIX веке // Исто-рические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение: вопросы теории и прак-тики. 2011. № 2-2 (8). С. 68–71.
- Озеров Ю.В. Епископ Курский Иустин (Охотин): исторический портрет // Шестнадцатые Дамиановские чтения: Рус-ская православная церковь и общество в истории России и Курского края : материалы всероссийской научно-практиче-ской конференции. Курск, 2019. С. 22–30.