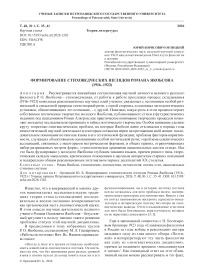Формирование стиховедческих взглядов Романа Якобсона (1916– 1923)
Автор: Орлицкий Ю.Б.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: IV Фортунатовские чтения в Карелии
Статья в выпуске: 1 т.48, 2026 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается важнейшая составляющая научной личности великого русского филолога Р. О. Якобсона – стиховедческая, от работы к работе прослежен процесс складывания (1916–1923) комплекса революционных научных идей ученого, связанных с осознанием особой ритмической и смысловой природы стихотворной речи, с одной стороны, и основных методологических установок, обеспечивающих это осознание, – с другой. Показано, какую роль в этом процессе играет собственное поэтическое творчество молодого Якобсона, публиковавшего стихи в футуристических изданиях под псевдонимом Роман Алягров; как практическое понимание творческих процессов позволяет молодому исследователю проникать в тайны поэтического творчества. Особое внимание уделено кругу теоретико-лингвистических проблем, на которые Якобсон живо откликался в первые годы самостоятельной научной деятельности и которым оставался верен на протяжении всей жизни: последовательное понимание поэзии как языка в его эстетической функции; проблема факторов вариативности, служащих объективными основаниями особой поэтической речи; «проблема семантических ассоциаций, связанных с некоторыми метрическими формами, и общих правил, ограничивающих набор разрешаемых метром форм», «типологическое сравнение национальных систем стиха». Все это было фундировано у молодого Якобсона глубоким знанием языков, причем разного типа, теоретическим складом мышления, критическим отношением к научным авторитетам старших поколений и подкреплено общим революционным энтузиазмом первых десятилетий ХХ столетия.
Роман Якобсон, стиховедение, лингвистика, методология, поэзия, стих, национальные стиховые системы
Короткий адрес: https://sciup.org/147253015
IDR: 147253015 | УДК: 801.6 | DOI: 10.15393/uchz.art.2026.1263
Текст научной статьи Формирование стиховедческих взглядов Романа Якобсона (1916– 1923)
Известно, что в американской и многих других национальных исследовательских традициях теория стиха (стиховедение) последовательно и вполне осознанно воспринимается как органическая часть лингвистической науки. В этом смысле научная деятельность великого ученого Романа Осиповича Якобсона – безусловный аргумент в пользу именно такого решения проблемы статуса этой научной дисциплины.
В предисловии к тому избранных трудов Р. О. Якобсона, составленному М. Л. Гаспаровым, «Работы по поэтике» Вяч. Вс. Иванов справедливо писал:
«Всегда в поле его зрения оставалась необходимость живой связи лингвистики и поэтики. Он настаивал на том, что без понимания роли разных уровней языка в поэзии нельзя до конца понять язык ни в его
функционировании, ни в истории; поэтому поэтика всегда оставалась для него пробным полем, экспериментальным простором для лингвистики. Вместе с тем он считал невозможным построить серьезную описательную и историческую поэтику без опоры на лингвистические выводы. Оттого языковедение и поэтика для него были близнецами, неразлучимость которых он не переставал доказывать» [3: 5].
Еще в написанной совместно с П. Богатыревым брошюре 1923 года «Славянская филология в России за годы войны и революции» авторы называют одну из глав своего обзора «Поэтикой» и интерпретируют эту часть филологии как одну из «лингвистических дисциплин», причем до недавнего времени «находившуюся в загоне»1. Как очевидный ответ на этот объективный вызов можно рассматривать и тот факт, что один из томов «Избранных сочинений» Якобсона – пятый – так и называется – «О стихе» [13] и включает в основном собственно стиховедческие работы, написанные в самые разные годы творческой жизни Якобсона; при этом статьи, посвященные исследованию различных аспектов теории стиха, находим и в других томах этого замечательного девятитомника. Как писал сам ученый в поздней работе «Retrospect» [12], переведенной М. Гаспаровым и опубликованной под названием «Ретроспективный обзор работ по теории стиха» [11]:
«…на протяжении всей моей научной жизни меня всегда привлекали необъятные области стиховедения (Verslehre) с их множеством разнообразнейших проблем, заманчивых и все еще не решенных» [11: 242].
Не будет преувеличением сказать, что работами о поэзии и стихе Якобсон и начинает, и завершает свой многолетний научный путь. Тем не менее наиболее плотно они сосредоточены именно в начале его научной карьеры, о чем убедительно свидетельствует и наиболее полная библиография работ ученого, составленная его учеником и исследователем Стивеном Руди [15], автором диссертации «Поэтика Якобсона московского и пражского периодов» (диссертация на соискание ученой степени доктора философии Йельского университета, 1978) [14]. В уже упомянутом обзоре, после данной в начале справедливо высокой оценки статей А. Белого, опубликованных в «Символизме» и заложивших начало научному стиховедению в России, Якобсон пишет:
«Я испытывал глубокую неудовлетворенность господствовавшим в то время ненаучным подходом к теории литературы и поверхностными, импрессионистическими работами критиков в этой области, поэтому меня чрезвычайно увлекла вдохновенная и вдохновляющая конкретность прозрений Белого, и в особенности его скрупулезное исследование поэтического мастерства» [11: 239].
Далее как пример реального преодоления «не-научности» тогдашней филологической науки в целом Якобсон приводит деятельность московского лингвистического кружка (МЛК) [6], работой которого он руководил и среди достижений которого особо выделял
«блестящие доклады Б. И. Ярхо (1889–1942) о латинских “каролингских ритмах”, Б. В. Томашевского (1890–1957) о пятистопном ямбе Пушкина и О. М. Брика (1888–1945) о “ритмикосинтаксических фигурах” и дискуссии по докладам» [11: 241].
Как видим, «блестящими» Якобсон называет доклады, посвященные вполне конкретным, даже частным вопросам теории и истории стиха, в то время как с самого начала его больше при- влекают проблемы общие, хотя тоже рассматриваемые на вполне обозримом, конкретном материале. И начало такому подходу закладывается именно в первые годы научной карьеры будущего основоположника структурализма.
Этот период научного творчества Якобсона подробно анализирует И. Пильщиков в статье с показательным названием «Заседание московского лингвистического кружка 1 июня 1919 г. и зарождение стиховедческих концепций О. Брика, Б. Томашевского и Р. Якобсона» [4]. И тут, как нам представляется, важно открыть библиографию Руди: она начинается – и это вполне закономерно – созданными и опубликованными Якобсоном художественными текстами, вошедшими в их совместную с Алексеем Крученых «Заумную гнигу» (М., 1915). Их в «Заумной гниге» два, они расположены одно под другим на странице, отведенной «главным» автором «гостю». Вот первый, помещенный прямо под псевдонимом автора – Алягров, который, тем более в таком контексте, тоже выглядит как образец зауми:
мзгл ы бжвуо йихъяньдрь ю чтлэщк хн фя съп скыполз а а Вт а б-длкни тьяпр а как а йзчди евреец чернильница2;
а вот второй, «полузаумный», содержащий несколько традиционных лексем:
РАССЕЯНОСТЬ удуша янки арк а н канк а н арм я нк душа я нки кита я нки к и т ы т а к и н и кая арм я к этик э тка т и хая тк а нь т и к тк а нiя к а нтик а о орш а т к я нт и т ю к т а ки м я к тм я нты хн я ку шк я м анм я к ы кь атр а зиксiю намёк умён там я м я нк – уш а тя не аваопостне передовица передник гублицю стоп тляк в ваго передавясь3.
Как видим, первый текст можно интерпретировать и как стихотворный, и как прозаический, а второй – как безусловно стихотворный, причем написанный свободным стихом; кроме этого, в ряде случаев Алягров с помощью курсива обозначает ударения, что очень важно для чтения заумных текстов, трудно вписывающихся в конкретные силлабо-тонические размеры. Однако автор делает это непоследовательно, особенно во втором тексте, в котором активно используется аллитерация как дополнительное стихообразующее средство. В общем, нетрудно увидеть в этих опытах своеобразный синтез собственно художественного формального эксперимента по созданию заумных текстов в духе радикального футуризма и одновременно аналитического самоописания творческого процесса.
Сюда же примыкает несколько экспериментальных якобсоновских переводов стихов Хлебникова и Маяковского на разные языки, созданных в 1910-е годы, из которых особенно выделяется переложение на старославянский стихотворения Маяковского «Ничего не понимают» (1914), выполненное в 1917 году [8: 239, 284]. Правда, впервые оно было опубликовано только в 1940 году в мемуарах В. Нейштадта о Маяков-ском4, а предметом научной рефлексии стало еще позднее, в статье 1989 года [7] и на знаменитом конгрессе «100 лет Р. О. Якобсону» в РГГУ в 1996 году, где это произведение в присущем ему провокативном стиле представил известный московский стиховед Максим Шапир.
Позднее указанные футуристические опыты составили ядро уже упомянутой книги «Будетлянин науки» и лишний раз подтвердили мысль, что ученый, занимающийся изучением художественной словесности, не может не знать, как, по каким законам эта словесность создается – причем знать не только теоретически, но и практически, что Якобсон как раз и демонстрирует своими первыми опытами. Вслед за стихами и переводами на рубеже 1910– 1920-х годов закономерно появляются популяр -ные критические статьи Якобсона о футуризме в поэзии и новых явлениях в изобразительном искусстве [5].
Вся эта работа, как позднее выяснилось, носила в основном подготовительный характер, однако она проявила общую закономерность творчества начинающего ученого, прекрасно описанную Н. С. Автономовой:
«Истоком страсти Якобсона к языку была поэзия – сначала символистская, потом футуристская: обычно, говоря о литературе, он обращался к поэзии. Причина этого, однако, не совсем обычна: поэзия для него – это единственный универсальный жанр искусства. Проза существует не везде, а поэзия везде; проза – это смягченная поэзия, а поэзия прямо повернута к языку. В самом деле, обыденный разговор произволен, а поэзия подчиняется наиболее четким и строгим формальным принуждениям (ритм, звуковой строй, семантическая организация, пространственная форма – повторы, симметрии, градации, оппозиции)» [1: 32].
Как результат всей этой деятельности в 1921 году выходит первая собственно научная работа начинающего исследователя – и сразу монография (хотя и миниатюрная, всего 68 страниц) – «Новейшая русская поэзия. Набросок первый. Виктор Хлебников»5. Однако, вопреки ожида- ниям, собственно стиховедческих наблюдений и выводов в этой книге немного, и все они касаются исключительно звуковой стороны поэтической речи близко знакомого ученому великого поэта. При этом большую часть исследования составляют, как пишет Якобсон, предваряя главку о синтаксисе Хлебникова, скорее «отдельные замечания» [9: 46], чем систематическое изложение теории; касаются они в первую очередь конкретных тропов и фигур хлебниковской речи. Однако в то же время в работе много основополагающих методологических замечаний об определяющей роли лингвистики в изучении поэзии. Более того, уже в самом начале книги появляется важнейший тезис поэтики Якобсона: «Поэзия есть язык в его эстетической функции» [9: 27]. Особое внимание уделено неологизмам и зауми Хлебникова и их роли в его индивидуальной поэтике. Много замечаний об эвфонии хлебниковского стиха и о его рифме, вообще о новейшей русской рифме; в этом разделе своей работы Якобсон переходит от заметок к связной теории и, по сути дела, описывает закономерности рифмы современной ему поэзии, попутно, как всегда, делая важнейшее замечание: «Русский верлибр выдвинул с новой силой установку на рифму» [9: 74].
Характерно, что в том же 1921 году появляется статья Якобсона «О художественном реализме», в которой автор выступает прежде всего как принципиальный критик нетерминологического употребления слова «реализм», начиная свое рассуждение словами:
«До недавнего времени история искусства, в частности история литературы, была не наукой, a causerie (болтовней – прим. редактора). Следовала всем законам causerie. Бойко перебегала от темы к теме, от лирических словоизлияний об изяществе формы к анекдотам из жизни художника, от психологических трюизмов к вопросу о философском содержании в социальной среде» [10: 387].
Не говоря о стихе и его теории в буквальном смысле, Якобсон высказывает здесь важнейшую интенцию всего стиховедения «как точной науки», начинающейся от стремления к объективности и терминологической точности и категорического неприятия «causerie» (или как сейчас принято говорить – «филологического ля-ля»), так что и в этом случае статья оказывается методологически крайне важной для стиховедческой науки.
Далее, в упомянутом уже обзоре Богатырева и Якобсона «Славянская филология в России за годы войны и революции», опубликованном в 1923 году, именно стиховедческие работы
Л. Якубинского, Б. Эйхенбаума, В. Жирмунского, Б. Томашевского, О. Брика, С. Боброва, Р. Якобсона и др. приводятся в качестве примера того, как «молодые русские филологи пытаются построить новую теорию поэтического языка»6; прямо перед ними в обзоре сочувственно упомянуты также работы ученых старшего поколения, писавших в начале века о поэтическом языке и о стихе, в том числе и то, что «русские символисты немало делали за последние годы для популяризации своих ритмических и эвфонических теорий»7. Однако в том же году молодой ученый выступает, как он сам писал по другому поводу, с «жестокой критикой» брюсовского «учебника» «Наука о стихе»8 и отчасти его авторской стиховедческой хрестоматии «Опыты»9. В рецензии Якобсона «Брюсовская стихология и наука о стихе» снова на первом плане – осуждение многочисленных терминологических неточностей и даже ошибок, начиная с нечеткого, противоречивого употребления самого понятия «ритм»10.
Якобсон вполне справедливо пишет:
«Новая книга Брюсова – яркий образчик обнаженной терминологии. Брюсов пускает в ход весь громоздкий реквизит классической метрики: иперметрия, липо-метрия, систола, диастола, синереса, диереса, синкопа, бакхий, анти-бакхий, моллосс, амфимакр, диямб, дихорей, антиспаст, ионическая восходящая, ионическая нисходящая, дипиррихий, диспондей, эпитриты, дохмий и т. п. испещряют страницы новой книги по русской метрике. Не объяснить, далее не описать явление стремится Брюсов, а только окрестить его»11.
Соответственно, далее Якобсон называет брюсовскую теорию стиха «бумажной» (в то время как у Голохвастова она, по мнению Якобсона, «архивная»)12.
Скептически относится Якобсон и к принципиальной приверженности Брюсова – причем и как практика, и как теоретика – к силлаботони-ке и ее стопной теории, объясняющей все: классик символизма, как известно, категорически не понимал и не принимал литературной тоники (в отличие от фольклорной), о чем позднее писал и Гаспаров, говоря об определенной ритмической робости поэта, не позволившей ему всерьез освоить даже дольники [2: 408–410] – в отличие от Якобсона, отдававшего предпочтение (очевидно, и под влиянием практики любимых им футуристов) именно тонике и постоянно противопоставлявшего «живой» тонический стих «музейной» силлабике и силлаботонике.
Не удовлетворяет Якобсона и брюсовский подход к рифме, главу о которой критик пренебрежительно называет «статейкой о рифме, которая по бедности метода, классификаций и определений превосходит все остальные»13 и согласно которой «не фонетический, а буквенный состав» является решающим моментом»14. Характерен и главный вывод ученого по поводу брюсовской теории в целом и излагающего ее учебного курса: «метрическая система Брюсова проходит мимо языка»15 (снова апелляция именно к языку!).
В следующем, 1923 году Якобсон публикует свою «Заметку о древнеболгарском стихосложе-нии»16, начинающуюся словами:
«Вчитываясь в древнерусские церковные песнопения, я невольно обратил внимание на их ритмичность. При ближайшем рассмотрении мне удалось установить, что древнеболгарские протографы, по крайней мере части тех отрывков, которые оказались у меня под рукой, написаны силлабическим стихом <…> система состоит в равносложности всех стихов; цезура обычна; стих заканчивается хореически: внутри стиха расстановка ударений более или менее свободна. Наряду с политическим стихом бытовал в Византии и стих “ритмический” <…> чуждый силлабическому принципу – тонический, но не стопный, тесно связанный с музыкальным ис-полнением»17.
Далее Якобсон предлагает собственные «попытки ритмической реставрации кондаков», сделанной с опорой на ритмическую разметку текста, основанную на знаках препинания, высказывая попутно мысли о природе стихотворного переноса, о причинах отказа некоторых современных поэтов от знаков препинания и т. п. нюансах, связанных с этими компонентами речи. Однако пятый том «Избранных работ» Якобсона закономерно открывается не этими работами, очень важными для понимания логики развития начинающего исследователя, а исследованием того же 1923 года «O чешском стихе, преимущественно в сопоставлении с русским», вышедшим в знаменитой опоязовской серии «Сборники по теории поэтического языка»18 (чешская версия книги с принципиальным авторским послесловием вышла в Праге в 1926 году19). В этой небольшой, но чрезвычайно емкой работе Якобсон обоснованно критикует бывшие в те годы очень популярными «произносительные» теории стиха (Сиверса и др.20; при этом сам он активно опирается на «записи французов», сделанные Броком с помощью его звукозаписывающего «аппарата»21).
Всесторонне анализируя особенности чешской стихотворной речи, русский ученый последовательно сравнивает разные национальные системы славянского стиха с фонологической точки зрения, вводит в активный оборот представления о сильных и слабых ударениях, о реальной ритмообразующей функции словоразделов, долгот и краткостей гласных в чешском стихе, об исторических особенностях чешской рифмы; наконец, рассуждает о комплексе разнородных причин, на практике порождающих «иноземное воздействие на версификацию» – как на конкретно чешскую, так и в общетеоретическом, типологическом смысле.
Наконец, в примечаниях – будто бы между делом – Якобсон одним из первых пишет о характерных особенностях тонического стиха Маяковского (поэзию которого метко называет «поэзией выделенных строк по преимуществу»22) и о соответствующей им стиховой графике, в первую очередь о так называемой «лесенке»:
«Деление на строчки самого Маяковского не совпадает с подлинными границами стихов. Я обозначаю его вертикалями. Это деление нельзя считать, как делают многие, “причудою”. Оно подсказывает читателю сущность ритмического членения стихов Маяковского. <…> Это несущественно, что у Маяковского далеко непоследовательно совпадение ритмического члена со стихотворной строчкой, и на одну строчку сплошь и рядом может приходиться по два, а то и по нескольку членов. Важно, что графическим приемом дана установка на членение стиха»23.
В уже упомянутом позднем обзоре «Retro-spect», подводя итоги своих многолетних исследований по теории стиха (проводимых, кстати сказать, на материале не только русского, чешского и болгарского, но и французского и норвежского стиха, мордовской народной песни и т. д., причем постоянно приводя весь этот разнообразнейший материал в виде убедительных примеров), Якобсон перечисляет волновавшие его в течение жизни «разнообразнейшие проблемы, заманчивые и все еще не решенные», среди которых «проблема факторов вариативности, на которую я указал в моей книге о чешском стихе»; «проблема семантических ассоциаций, связанных с некоторыми метрическими формами»; «проблема общих правил, ограничивающих набор разрешаемых метром форм», «типологическое сравнение национальных систем стиха». Нетрудно увидеть, что это – самые живые проблемы не только для Якобсона, но и для мирового стиховедения в целом. А сам Якобсон, перечисляя их, пишет, что стал размышлять над ними начиная с самых ранних работ и неоднократно к ним возвращался. И действительно, в свои ранние годы, московские и пражские, Якобсон, по сути дела, закладывает прочные теоретические основы своих основных стиховедческих концепций, на которые потом будет ориентироваться всю жизнь: последовательное понимание поэзии как языка в его эстетической функции; проблема факторов вариативности, служащих объективными основаниями особой поэтической речи.
Все это было фундировано у молодого Якобсона глубоким знанием языков, причем разного типа, теоретическим складом мышления, критическим отношением к научным авторитетам старших поколений и подкреплено общим революционным энтузиазмом первых десятилетий ХХ столетия.