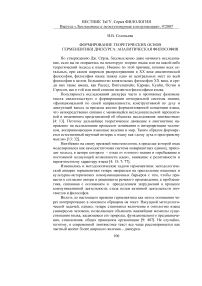Формирование теоретических основ герменевтики дискурса: аналитическая философия
Автор: Соловьева Ирина Валерьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы теории
Статья в выпуске: 9, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120463
IDR: 146120463
Текст статьи Формирование теоретических основ герменевтики дискурса: аналитическая философия
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ГЕРМЕНЕВТИКИ ДИСКУРСА: АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
По утверждению Дж. Сёрла, бессмысленно даже начинать исследование, если вы не опираетесь на некоторую теорию языка или на какой-либо теоретический подход к языку. Именно по этой причине, помимо всех остальных, при самом широком распространении в ХХ веке аналитической философии, философия языка заняла одно из центральных мест во всей философии в целом. Большинство влиятельных философов ХХ века, и среди них такие имена, как Рассел, Витгенштейн, Карнап, Куайн, Остин и Стросон, все в той или иной степени являются философами языка.
Популярность исследований дискурса часто в противовес феномену текста свидетельствует о формировании интегральной системы знания, «функциональной по своей направленности, конструктивной по духу и диктующей выход за пределы жестко формализованной концепции языка, что непосредственно связано с меняющейся исследовательской перспективой и изменением представлений об объектах исследования лингвистики» [4: 13]. Поэтому дальнейшее теоретическое движение в лингвистике направлено на исследование процессов понимания и интерпретации человеком, воспринимающим языковые явления и мир. Таким образом формируется естественный научный интерес к языку как «дому духа и пространству мысли» [13: 32].
Неизбежно на смену прежней эпистемологии, в пределах которой язык моделировался как самодостаточная система инвариантных единиц, приходит подход, в центре которого – отказ от готового знания и «пребывание в постоянной волнующей возможности идеи», внимание к релятивности и вероятностному характеру языка [4: 15; 7: 77].
Изменились и методологические задачи герменевтики: методологический аппарат герменевтики теперь направлен на преодоление языковых и культурно-исторических коммуникационных барьеров с тем, чтобы привести к согласию автора и реципиента речевого произведения, а проблематика, связанная с осознанием и преодолением затруднений в процессе коммуникативной деятельности, стала полем активной деятельности лингвистов и философов.
Вплоть до настоящего времени герменевтика как метод понимания через интерпретацию в основном обращена на текст. Насущной методологической задачей, однако, теперь становится включение в онтологию языка универсума человека, позволяющее объяснить важнейшие моменты существования языка, касающиеся его природы, функционального предназначения, становления, общих принципов организации [9: 407]. Не случайно, поэтому, в современной лингвистике текст все чаще рассматривается как частный аспект более широкого явления – дискурса.
Переход от понятий «речь» и «текст» к понятию «дискурс» связан со стремлением ввести в классическое противопоставление языка и речи, принадлежащее Ф. де Соссюру, некоторый третий член – нечто «более речевое», нежели сама речь, и одновременно – в большей степени поддающееся изучению с помощью традиционных лингвистических методов, более формальное и тем самым “более языковое”»[12].
Можно смело утверждать, что дискурсивность как лингвистический феномен, объединяющий речь и внеречевое (социальное) пространство, объединяет формы взаимодействий структур в тексте и вне его, и восходит к идее диалогичности в том виде, в каком, фактически с 20-х гг. ХХ века, ее выдвигает М.М. Бахтин: реальной единицей речевого общения полагают высказывание, границей которого оказывается смена речевых субъектов; простейшей его формой представляется реальный диалог со сменой реплик. Диалогичность, по мнению Бахтина, состоит в том, что каждое высказывание можно в самом широком смысле рассматривать как ответ на все предшествующие высказывания в данной сфере и диалогические отношения в целом. Диалог, взятый в философском аспекте, представляет собой явление гораздо более широкое, чем формальные отношения между репликами композиционно представленного диалога. Это – почти универсальное явление, пронизывающее всю человеческую речь, как и все отношения и проявления человеческой жизни, вообще все, что имеет смысл и значение [1: 49].
Основой содержания понятия «дискурс» является представление о включенности коммуникации в социальный контекст. В силу этого дискурс, в частности, мыслится как речь, вписанная в коммуникативную ситуацию в качестве категории с более отчетливо выраженным социальным содержанием по сравнению с речевой деятельностью индивида.
Диалогический аспект дискурсивности в таком, наиболее общем, виде, может послужить объяснением наличия у дискурсивности скрытой систематичности, поскольку создаваемые в процессе коммуникации тексты предполагают подход к «коммуникации как взаимодействию сознаний посредством языка» [15: 12]. Следовательно, вопросы истинностности и взаимопонимания в процессе общения, какими бы традиционными они ни казались современному исследователю, снять невозможно.
Заметим, что терминологическое употребление выражения «понимание дискурса» отлично от выражения «понимание текста», поскольку предполагает признание наличия в дискурсе сферы неявно данного, а дополнительные возможности интерпретации, возникающие в этой связи, позволяют раскрыть существование дополнительных коммуникативнопрагматических смыслов как в дискурсе, так и в ситуации общения.
Стало традицией полагать феноменологию философской основой герменевтического метода. Причина такого полагания состоит, прежде всего, в наличии факторов противостояния аналитической философии в более узком плане (представленной главным образом доминирующим направлени- ем в англоязычной философии ХХ века) и феноменологией. Особое место в аналитической философии занимает неопозитивизм как строгая философия, уделявшая значительное внимание логико-лингвистической стороне обсуждаемых проблем в таком ключе, как это делают, осмысливая «глубинные» логические структуры языка, Фреге, Рассел, Витгенштейн в процессе их противопоставления «поверхностным» грамматическим структурам. В этом смысле и взгляды Ноэма Хомского, опиравшегося на формально-логические приемы в процессе разработки идей трансформационногенеративной грамматики, также можно отнести к аналитикофилософскому направлению.
Следует, однако, признать, что развитие феноменологии немыслимо без пересмотра ею оснований, заложенных аналитической философией, в особенности в части исследования суждений как действий, степени их ис-тинностности, возможности познания как результата согласованности: «истина, осознаваемая ... как одна и та же, становится непреходящим приобретением и достоянием, и в силу этого будет теперь называться познанием» [3: 61].
Если герменевтика текста, апиорно признав достижения аналитической философии, может опереться на феноменологию и методологию деятельности (СМД-методологию), то герменевтика дискурса «обязана» быть построена на синтезе аналитического и феноменологического методов. Причиной такого подхода является фактор одновременного протекания процессов продукции и рецепции, понимания и интерпретации дискурса.
С точки зрения аналитической философии и теории языка как формальной теории языкового значения в основе истинностной коммуникации лежит интерпретация лингвистического значения: «мы соединяем понятие значения с истиной, а истину без труда признаем свойством предложений; предложения же принадлежат языку. Но как теоретики мы ничего не узнаем о человеческом языке, пока не станем понимать человеческую речь» [16: 539].
Несмотря на некоторые очевидные различия, философия языка и лингвистическая философия тесно связаны: «Лингвистическая философия складывается из попыток решить философские проблемы путем анализа значений слов естественных языков и логических отношений между словами. …Философия языка складывается их попыток проанализировать самые общие языковые единицы и отношения, такие как значение, референция, истина, верификация, речевой акт или логическая необходимость. Если “философия языка” – это название объекта изучения, заголовок внутри философии, то “лингвистическая философия” – это в первую очередь название философского метода» [8: 6].
Таким образом, метод, лежащий в основе аналитической философии, представляет собой два встречных направления мысли: 1) от частного к общему – от анализа конкретных значений слов естественных языков и логических отношений между словами к общим философско- лингвистическим закономерностям и 2) от общих языковых единиц и отношений – значения, референции, истины, верификации, речевого акта – к конкретным речевым практикам, с одной стороны, и вытекающим из них философским обобщениям, с другой. Так или иначе, объектом аналитического метода является сам язык в многообразии частного и общего: «Философия языка и лингвистическая философия связаны тесно не только потому, что к некоторым проблемам философии языка можно с успехом подойти, применяя методы и приемы лингвистической философии (речь, например, идет о таких проблемах как природа истины, которую, по крайней мере частично, представлена серией вопросов, относящихся к анализу понятия “истинный”), но и потому – а это гораздо важнее, – что методы, которыми пользуются лингвистические философы в своих исследованиях языка, в значительной степени зависят от их философских взглядов на язык, то есть от их философии языка» [Ibid.].
Вклад логического позитивизма в теорию языка очевиден: это направление в аналитической философии основывается на исследовании философией языка и речи как источников методологии и напереносе философских исследований в поле языка. Тем не менее игнорирование языковой личности и сведение философской позиции в основном к принятию во внимание когнитивной части языка в качестве основной, признание репрезентации и передачи фактической информации в качестве единственной функции языка значительно сужает сферу философско-лингвистических исследований, в основе которых лежит аналитический метод.
Таким образом, точка зрения аналитической философии на язык может быть представлена в основном двумя положениями: во-первых, целью языка признается сообщать о том, что может быть истинным или ложным и, во-вторых, представители аналитической философии рассматривают все языковые единицы – слова, предложения, пропозиции – как объекты, которые обозначают, или как объекты, которые являются истинными или ложными. Т.е. в расчет принимаются только единицы языка, но не действия или намерения говорящих.
Представители аналитической философии усматривают эту недостаточность метода, выделяя классы высказываний, по отношению к которым понятие истины неприменимо. В частности, размышляя о природе оппозиции «перформатив-константив», Дж. Остин пишет: «Константивное высказывание, известное под таким, столь дорогим для философов, именем, как «утверждение», обладает свойством быть истинным или ложным. В противоположность ему, перформативное высказывание не может быть ни истинным ни ложным: у него свои цели, оно используется для осуществления действия. Произнося перформативное высказывание, мы всегда осуществляем некоторый акт, или, что то же самое, выполняем некоторое действие, которое, видимо, едва ли могли бы выполнить каким-то другим способом, по крайней мере с той же точностью» [8: 23]. Любое намерение говорящего, опредмечиваемое в виде перформативного высказывания, дается в речи неявно, и как показывают дальнейшие рассуждения Дж. Остина в указанной статье, подлежит интерпретации.
Идея о перформативе как о неявно данном в речи намерении говорящего является, на наш взгляд, весьма плодотворной для герменевтики дискурса, поскольку побуждает к дискуссии при ее дальнейшей разработке, см.: [2; 5; 11; 14]. Основные типы философского анализа группируются вокруг точек зрения указанных авторов, но все они объединены стремлением к установлению истинного понимания и непосредственно связанной с этим идеей коммуникативных удач / неудач.
Для настоящего исследования более важно констатировать сам факт введения интерпретативной деятельности в процесс коммуникации, поскольку именно при использовании интерпретации в качестве инструмента понимания высказывания процесс понимания становится герменевтическим. Так как «перформативные высказывания не могут быть истинными или ложными, поскольку вполне возможно, что они могут говорить о том, что или имплицировать то, что какие-то другие пропозиции являются истинными или ложными» [8: 23]. Эти рассуждения переводят процесс исследования истинностного статуса высказывания в плоскость усмотрения неявных сущностей. Поскольку перформативное высказывание невозможно оценить по признаку «истинно» – «ложно», его эффект оценивается по признаку коммуникативной успешности или неуспешности. Более подробное исследование типологии коммуникативных неудач видим в исследовании [6].
Таким образом, проблема истинностности выводит нас на факторы нарушения принципа истинностности высказываний, которые, однако, не превращают высказывание в бессмыслицу. В этом случае, независимо от пределов высказывания (а мы проводим в данном случае равенство между высказыванием и дискурсом), дискурс становится объектом герменевтического исследования.
Помимо проблемы истинностности высказывания, которая логически выводит аналитическую философию на проблему констативных / перформативных высказываний и далее – к интерпретации, существует сфера проблем, группирующихся вокруг локуции / иллокуции, решение которых может быть также найдено в русле герменевтического метода.
Целью анализа работы П.Ф. Стросона «Намерение и конвенция в речевых актах» [14] является прослеживание тенденции к усмотрению фактора интенциональности высказывания, что также является прерогативой герменевтики. Вопрос, поставленный Стросоном, звучит следующим образом: какие именно абстракции из целостного речевого акта хочет извлечь Остин с помощью «своих» понятий значения и локутивного акта? Ответ на этот вопрос предполагает учет интенции говорящего в герменевтическом смысле этого термина: «если высказывание с иллокутивной силой, скажем, предостережение, не воспринимается аудиторией, которой оно адресовано, как предостережение (т.е. его интенциональная составляющая неясна – комментарий наш – И.С.), то (считается) нельзя говорить, что был реально осуществлен иллокутивный акт предостережения, так как осуществление иллокутивного акта включает в себя обеспечение усвоения (securing of uptake); что означает, что со стороны слушающего должно быть понимание значения и силы локуции» [14: 36]. По-видимому, мы можем выразить взаимосвязь этих понятий следующим образом: знание силы высказывания равносильно знанию того, какой иллокутивный акт, если таковой вообще имел место, был реально осуществлен при произнесении этого высказывания. П. Стросон рассматривает высказывания, обладающие, по Остину, иллокутивной силой (подробнее см.: [14: 36–37]), и задает следующий интересный в пределах настоящего исследования вопрос: «если значение высказывания известно, возникает вопрос, как сказанное задумывалось говорящим, или как произнесенные слова были использованы, или как высказывание должно было быть воспринято, или как его следовало воспринимать?» Фактически, П. Стросон задает вопрос о природе интенции высказывания и способах ее усмотрения, но в качестве значимого компонента процесса понимания интенция обсуждается в дальнейшем лишь в пределах феноменологии.
В ходе полемики с Г.П. Грайсом, П. Стросон обсуждает содержание еще одной лингвистической категории, которая в дальнейшем претерпит изменения в феноменологическом контексте. Это категория значения: «На мой взгляд полезным в данном случае может оказаться понятие, введенное Г.П. Грайсом в его важной статье “Значение”, а именно понятие субъективного значения, то есть того, что конкретный говорящий имеет в виду под своим высказыванием» [14: 42]. Введенное таким образом понятие может быть объяснено при помощи понятия «намерение» (англ. intention). Автор имеет в виду намерение говорящего, распознавание которого является условием адекватного понимания высказывания в процессе общения. «Общение», безусловно, признается фундаментальным основанием любой теории значения. В совокупности с понятием интенции, как оно обсуждается Грайсом и Стросоном, минимальное условие осуществить общение – это желание участников коммуникации распознать намерение друг друга [Op. cit.: 43]. Интендирование, возникшее на периферии обсуждения проблематики аналитической философии и лингвистики, позже становится методологической основой феноменологии и выступает в качестве основы понимания речи.
По утверждению Дж. Сёрла, существо языкового общения составляют речевые акты, поскольку они, как и любая сознательная знаковая активность, являются результатами деятельности участников коммуникации.
Еще один остиновский термин – «обеспечение усвоения» – в пределах аналитической философии – является предвестником понятия «понимание», которое Стросон вводит в качестве комплементарного к грайсовому понятию субъективного значения. «Обеспечение усвоения» полагается важным фактором обеспечения успешной коммуникации также и в случа- ях, когда смысл-намерение представлен неявно. Открытое или скрытое (но верно распознанное) намерение должно способствовать определенной и регулируемой конвенциями деятельности (например, игре) способом, определяемым конвенциями и правилами этой деятельности, и теми случаями, когда открытое намерение включает обеспечение определенной реакции (когнитивной или практической) со стороны слушающего сверх той, которая обеспечивается всегда, когда обеспечено усвоение. Следовательно, «обеспечение усвоения» является следствием интерпретативной деятельности участников коммуникации. В условиях дискурса объектом интерпретации может быть как содержание (в терминах аналитической философии – значение высказывания), так и языковые элементы различных уровней и внеязыковые компоненты (прагматическая составляющая) коммуникативной ситуации (которые, в соответствии с утверждением В.П. Литвинова, лежат на периферии лингвистической работы).
Приведенные выше рассуждения влекут по крайней мере два следующих вывода: 1) возможности интерпретации прагматического аспекта дис-курсивности могут методологически основываться на платформе аналитической философии; 2) приведенные выше рассуждения демонстрируют наличие в аналитической философии методологических лакун, которые в целях разработки герменевтики дискурса могут быть восполнены с помощью понятийного аппарата феноменологии.