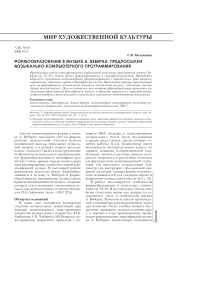Формообразование в музыке А. Веберна: предпосылки музыкально-компьютерного программирования
Автор: Мезенцева Светлана Владимировна
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Мир художественной культуры
Статья в выпуске: 3 (60), 2021 года.
Бесплатный доступ
Предлагается анализ конструктивных особенностей вокальных произведений Антона Веберна ор. 12-19 с точки зрения формообразования и специфики развития. Проводятся параллели музыкально-компьютерного программирования с определенного рода программированием, заданным серией в додекафонной музыке. Предлагается ракурс, проливающий свет на формирование музыкальной эстетики атональной музыки, понимание музыки «Новой венской школы». Цель исследования: рассмотреть формообразующие принципы музыкальных произведений додекафонией музыки и провести параллели с произведениями, создание которых стало возможно с появлением музыкально-компьютерных технологий.
Атональность, додекафония, антон веберн, компьютерное моделирование элементов музыкального творчества, музыкально-компьютерные технологии, мкт
Короткий адрес: https://sciup.org/140290302
IDR: 140290302 | УДК: 78.01
Текст научной статьи Формообразование в музыке А. Веберна: предпосылки музыкально-компьютерного программирования
Анализ закономерности формы в музыке А. Веберна проливает свет на формирование музыкальной эстетики музыки нововенской школы, понимание атональной музыки, а в ракурсе нашего исследования – помогает увидеть конструктивные особенности музыкального произведения, его формообразования и специфики развития с точки зрения определенного рода программирования, заданных серией в до-декафонной музыке. В настоящей работе проводятся аналогии между формообразованием в музыке А. Веберна и формообразующими принципами музыкальных произведений новейшей музыки, создание которых стало возможно с появлением музыкально-компьютерных технологий ( термин И.Б. Горбуновой, далее – МКТ [25]).
Обзор исследований
В наши дни становится возможным создание музыкальных композиций при помощи компьютерного моделирования элементов музыкального творчества (И.Б. Горбунова, С.В. Чибирёв) [10]. Вопросы моделирования творческих процессов с по- мощью МКТ, подходы к моделированию музыкального текста были исследованы в трудах ряда учёных, среди которых отметим работы [9–11]. Композитор имеет возможность непосредственно влиять на процесс создания алгоритмической композиции: «менять отдельные данные, алгоритмы, вторгаться в различные элементы алгоритмической композиционной структуры. Он использует музыкальный компьютер как инструмент, обладающий широкой палитрой художественно-эстетических возможностей для создания образа и выражения музыкальной мысли» [11, с. 75].
В работе анализируется особенности формообразования в вокальных сочинениях ор. 12–19. В исследуемых опусах наиболее отчетливо видно как выкристаллизовывается стиль и особенности письма А. Веберна. Изучение и анализ произведений композитора рассматриваемого периода позволяет более глубоко познать внутренние принципы музыки композитора, т. к. именно в этих произведениях происходит формирование додекафонной техники А. Веберна, композитора, оказавшего
Общество
огромное влияние на всю музыкальную культуру XX века. Причина выбора именно вокальных произведений в качестве предмета анализа не случайна и показательна для сравнения техники А. Веберна с техниками МКТ как пример опоры на внему-зыкальные средства выстраивания формы.
Общество. Среда. Развитие № 3’2021
Материалы и методы
В рамках настоящей работы методологической опорой послужили исследования, посвященные анализу классического музыкального формообразования во взаимосвязи с различными сторонами музыкального языка и композиторской технике в музыке XX века (работы Л.А. Мазеля и В.А Цуккермана [18], В.О. Беркова [2], Т.С. Бершадской [3], Н.С. Гуляницкой [13], Ю.Н. Холопова и В.Н. Холоповой [22; 24], С.С. Гончаренко [6], Э. Денисова [14], Ю.В. Кудряшова [15], С.А. Курбатской [16] и др.), музыкально-компьютерных технологий, в частности касающиеся компьютерного моделирования элементов музыкального творчества: работы И.Б. Горбуновой, С.В. Чибирёва, Г.Г. Белова, М.С. Заливадного и др. [1; 9; 12; 27]).
Параметры формообразования
Отказавшись от привычных мажоро-минорных средств формообразования, композиторы ищут спасительного прибежища в слове, тексте, структуре стиха: в «содружестве» со словом и при его постоянной поддержке развитие музыки шло, как известно, на протяжении всей ее истории. Но здесь формотворческая роль слова оказалась особенно актуальной. Разумеется, иногда приходилось прибегать и к другим средствам – симметрии элементов музыки (вплоть до симметрии тактовых размеров), тембрам и т.д. Но по сравнению с колоссальной формообразующей ролью тональности их помощь, скажем образно, была очень слабой. К тому же идеолог венской школы А. Шенберг звал своих коллег к отказу от привычных музыкальных средств. Это выразилось в его «эстетике избежания», то есть сознательном отказе от многих выразительных средств, которые музыка накопила к началу XX века – тональности, тематизма, мотивного развития, ритма, фактуры и других. Оставлено было не много: двенадцатитоновая темперированная система, некоторые выразительные приёмы и средства, которые можно было понять скорее умозрительно, а не слухом. Чисто логически этот путь разрыва с традициями был «путь в никуда» – к анархии, распаду, бессмысленности. Но каким-то особым чувством Шенберг предвидел, что анархия со временем выльется в логику. В ту новую систему, которая получила название додекафонии.
Термин «свободная атональность» используется Н.С. Гуляницкой в книге «Введение в современную гармонию»: «Свободная атональность – это определенный тип звуковысотной организации, характеризующийся а) отказом от норм традиционной тональности и б) поиском новых структурных закономерностей (интонационного согласования) на основе 12-тоновой шкалы, неповторности тонов и эмансипации диссонанса» [13, с. 170]. В определении Н.С. Гуляницкой существенно то, что свободная атональность – это не анархия. Последней в музыке быть не может. Но в то же время музыка лишается многих традиционных формообразующих средств, сразу нисходя, образно выражаясь, до уровня своеобразного звукового аскетизма. Ибо то, на чем зиждилась музыкальная организация трех веков, в какой-то момент отвергается. Системе классической гармонии произносится безжалостный приговор. Она исчерпала себя. Хотя и имела «блестящую, но увы, краткую историю» (слова И. Стравинского) [21, с. 402].
Система формообразующих средств классической гармонии довольно обширна. И в представлении В.О. Беркова имеет следующий вид: «Гармония участвует в создании музыкальной формы. К числу формообразующих средств гармонии принадлежат: а) аккорд, лейтгармония, гармонический колорит, органный пункт; б) гармоническая пульсация (ритм смены гармоний), гармоническое варьирование; в) каденции, секвенции, модуляции, отклонения, тональные планы; г) лад, функциональность (устойчивость и неустойчивость)» [цит. по: 2, с. 3]. Из перечисленных формообразующих средств ни одно «не работает» в рассматриваемых произведениях Веберна. «С наибольшей силой проявляет себя формообразующее действие гармонии как установление функции частей в форме, – пишут Л.А. Мазель и В.А. Цукерман, – темы произведения являются носителями образности; они не только экспонируют, излагают образ, но демонстрируют развитие образов путем трансформации целых тем и разработки отдельных элементов; одновременно выявляются и функции частей формы [...] Гармония с ее контрастами устойчивости и неустойчивости, ладовой напряжённости и успокоения, завершенности и «открытости», резких и частых модуляций, с ее тонкой дифференциацией функций, градации отдаленности и близости – как нельзя больше приспособлена к выполнению этой роли. В союзе с тема-тизмом и прочими средствами гармония «растолковывает» слушателю значение каждой части, ориентирует его в сложном лабиринте большой формы» [18, с. 258–259].
Таким образом, форма лишается выработанных исторически и понятных каждому слушателю функций частей, без которых она становится непонятной. Именно этим объясняются горькие сетования А. Шенберга и его учеников о том, что отказ от исторически сложившихся музыкальных средств привел к алогичности и невозможности создать произведения крупной формы. А. Веберн в период создания своих «Багателей» писал: «Я чувствовал, как только пройдут все 12 тонов, пьеса кончается» [5, с. 4].
Что же представляет собой вертикаль у Веберна? Служит ли она средством формообразования ? В сочинениях Веберна, конечно, есть гармония, вертикальные созвучия, но они иного качества, нежели классические аккорды с их опорой на терцовое строение и функционально дифференцированные. По мнению А.Л. Порифьевой, «Веберн создал индивидуальную звуковысотную систему, охватывающую все горизонтальные и вертикальные построения, в том числе и серию. Это система трехзвучных аккордов в большой септимы (б.7) или малой ноны (м.9). Аккорды более трех звуков набираются из основных блоков [...] Тот же принцип в основе мелодии [...]» [19, с. 76]. Действительно, основой вертикали у Веберна служат трехзвучные комплексы в объёме б.7 и м.9 – широких и диссонант-ных интервалов. Заполняет интервал б.7 или м.9 третий звук, образующий терцию или кварту (чаще всего тритон) с верхним или нижним звуком созвучия. По такому же принципу организовываются и горизонтальные линии.
Таким образом, очевидным становится наличие «принципа интонационной модели, порождающей фактуру в ее горизонтальной и вертикальной координатах» [3, с. 167–168]. Этой «интонационной моделью», управляющим комплексом звуков, становится созвучие из тех звуков в объёме б.7 и м.9. В таком случае речь уже не может идти о классическом типе формообразования посредством гармонии, так как такие композиционные понятия, как модуляция, тональный план, органный пункт, каденции, гармоническая пульсация, как мы уже сказали, теряют свой смысл. Гармония теперь не контролирует установление функций частей в форме. Исчезает и само
понятие тональности с ее характерными признаками.
В рассматриваемых сочинениях Веберна исчезают понятия «устой – неустой», тяготение к центру. Исчезла тональность, как центр притяжения, а вместе с ней исчезла и гармоническая функциональность, централизация и основа тональной организации – консонирующее трезвучие. Основой вертикали становится диссонанс («эмансипация диссонанса»). Тональность заменяется поня- тием «атональность», которая организуется ведущим звуковым модусом. Все это не могло не отразиться на формообразовании. «С точки зрения динамики формы кризис тяготений означает ослабление динамики до горизонтали, резкое сужение радиуса ее действия, сведение иногда до минимума. Эта утрата частично восполнилась усилением динамики гармонии по вертикали, выразившимся в раскрепощении диссонанса (декларированном Шенбергом) и возрастании его роли. Тем не менее, кризис тяготений уменьшил конструктивные силы гармонии, что было расценено как кризис гармонии...» [22, c. 94].
Организация формы музыкального произведения происходит на метро-ритмическом уровне . Большую организующую роль в классической форме играет чередование акцентов, сильных и слабых долей и их взаимодействие. Так, В.Н. Холопова [22] выделяет четыре логически возможных типа ритмики: регулярная акцентность, нерегулярная акцентность, регулярная времяизмерительность, нерегулярная времяизмерительность. Для организации формы в единое целое важнейшей является регулярная акцентность. Однако, ритм XX века в значительной мере основан на принципе нерегулярной акцентности, асимметрии. Ведущими типами ритмики у Веберна В.Н. Холопова определяет регулярную времяизмерительность и нерегулярную акцентность. При этом наполнение акцента у Веберна весьма своеобразно и объясняется лирической экспрессивностью, необычайно сконцентрированной особенностью содержания его музыки. Веберну чужда передача какого-либо музыкального движения. Не согретого трепетной эмоцией. Мы не найдем у него характерных для многих композиторов XX века образов механической силы, моторики, энергетики. В связи с этим в ритмических средствах на месте акцента – не фактурно – твердый удар (как часто, например, у Прокофьева или Бартока), а интонационное напряжение звука. ««Звуковая ма-
Общество
Общество. Среда. Развитие № 3’2021
терия» Веберна характеризуется большей или меньшей интенсивностью отдельных точек» [22, c. 281].
Метро-ритмический профиль произведений Веберна характеризуется, во-первых, довольно частыми сменами метра (размера), во-вторых, постоянным стремлением избежать повторности ритмической организации (шенберговская «эстетика избежания» традиционных средств). Ритмические рисунки Веберна гибки, изменчивы, прихотливы.
Формообразующая роль ритма ярко проявляется во взаимодействии с гармонче-ским развитием . «В классической гармонии важной формообразующей тенденцией является смена гармоний по сильным долям такта. Метр «дирижирует» движением гармоний, помогая им выявлять свои специфические функции и функции по отношению к форме» [24, c. 58]. «Ровное движение гармоний, учащение их или замедление – это явления ритмического порядка; вступления новых гармоний образуют свой самостоятельный ритм... Моменты появления новых гармоний настолько заметны и значимы в музыке, что они оказываются опорными пунктами в течении музыки, и каждый из них несет в себе внутренний акцент. Помещение каждой новой гармонии на сильной доле такта – характернейшее явление органической связи ритма и гармонии» [22, с. 69]. Однако, в анализируемых произведениях Веберна ритму не подчиняются трехзвучные аккордовые комплексы. Они не всегда появляются на сильной доле такта, нет определенной закономерности смен этих гармоний.
Таким образом, ритм у Веберна лишается своих формообразующих функций; он акцентно не организует музыкальную ткань, не вступает во взаимодействие с гармонией и не является фактором гармонической централизации.
Большими формообразующими возможностями обладает и фактура . В первую очередь смена фактуры в произведении имеет в классической музыке расчленяющую функцию и чаще всего означает смену раздела формы. «Связь фактуры с формой выражается в том, что сохранение данного рисунка фактуры способствует слитности построения, его смена – расчлененности. Границы разделов определяются сменой способа обработки и, следовательно, фактуры, тематического материала» [20, с. 160].
«Смена фактуры в музыкальном произведении происходит [...] значительно реже, чем смена гармони. Одна и та же фактура [...] часто сохраняется на протяжении бо- лее или менее значительного отрывка и является одним из постоянных факторов, определяющих характер музыкальной выразительности этого отрывка. Естественно также, что при таких условиях резкая и определенная смена фактуры обычно означает начало нового построения, нового раздела формы. Этим во много определяется формообразующее значение фактуры» [18, с. 332].
Интересное явление отмечает в своей работе «Фактура в музыке» М.С. Скреб-кова-Филатова. Она пишет о различных соотношениях тематизма с фактурой – параллельные, непараллельные, смешанные. «Параллельные и непараллельные действия фактурной и тематической систем широко распространены в музыке и имеют большое значение для формообразования» [20, с. 186]. М.С. Скребкова-Фила-това вводит даже такие термины как «фактурная репризность» (без репризы темы), «фактурная композиция» (форма второго плана). В малой форме фактура способна выделить отдельные звуки. «Фактура влияет на характер акцента тем, что увеличивает тяжесть, массивность одних звуков и делает легкими, невесомыми другие» [22, c. 71]. Таким образом, фактура самым тесным уровнем связана с формообразованием в классической музыке.
В музыке же ХХ века возникают новые виды фактуры, которые нельзя отнести ни к гомофонии, ни к полифонии, ни к смешанному типу. Так, в рассматриваемых произведениях Веберна способ изложения музыкального материала не может быть охарактеризован устоявшимся термином. Это, несомненно, не гомофония, так как в песнях нет подразделения на «мелодию и аккомпанемент» (хотя «отголоски» такого изложения еще видны в ор. 12, названном А. Порфирьевой, наряду с ор. 13, наиболее традиционным). Голоса фактуры равноправны по отношению друг к другу. Но в то же время это и не имитационная полифония, так как каждый голос достаточно автономен. Скорее, здесь мы имеем дело с полифонией иного типа: «полифония» в своем этимологическом смысле «многоголосие», единство в одновременности нескольких тематически независимых голосов. Для фактуры Веберна характерна «разорванность на клочки», отказ от традиционных форм изложения, горизонталь унифицируется с вертикалью (а в более поздних сочинениях Веберна появляется и диагональный аспект). Фактура основана на интонационной, ритмической, тембровой и динамической обособленности голосов. Подобный тип изложения сохраняется в рассматриваемых сочинениях от начала до конца, то есть в них отсутствуют такие формообразующие факторы, как смена фактуры на грани формы, акцентуация определенных звуков, соответствие типа изложения какому-либо разделу. Фактура лишена своих прежних формообразующих функций.
Основные методы развития в музыке А. Веберна заимствованы им из полифонии (как одновременности независимых голосов) – это метод вариационности. Серия выступает в качестве темы и основы тематического развития с разных сторон (темброво, динамически, метроритмически, фактурно, гармонически, в первую очередь, интонационно). Композитор применяет традиционные для полифонии методы развития – обращение (инверсия), ракоходное движение, увеличение, уменьшение (как по вертикали, так и по горизонтали). Целое в результате представляет собой результат разного вида вариацион-ности. Специфическая трактовка времени и внимание к отдельному звуку («точке»), тембру и запрограмированность темы-серии к особому типу полифонического развития в сочетании с новыми конструктивными приемами, применяемыми композитором, рождает ассоциации с возникшей позднее в истории и теории музыки возможностью музыкально-компьютерного программирования музыкальной ткани и ее развертывания.
Особый интерес вызывает мелодика Веберна. В связи с тем, что мы анализируем вокальные жанры, остановимся конкретно на вокально интонируемой мелодии песен. Совершенно очевидна утрата мелодией такого качества, как кантиленность. «Инструментальность» вокальных партий делает нелегкой мелодику Веберна для интонирования. Поражает обилие диссонирующих интервалов, трудновоспроизводимых интонаций. В.А. Васина-Гроссман отмечает: «Манера интонирования своеобразна. Вокальная партия (всегда главная в ансамбле) в звуковысотном отношении может представлять собой серию, а может развертываться как свободная атональная мелодия. При этом в каждой мелодии ясно ощутим какой-либо один, определяющий интервал, как правило, диссонирующий и широкий (большая септима, уменьшенная или увеличенная октава, малая нона)» [4, с. 283]. Напомним также и об упоминавшемся выше принципе построения многих произведений Веберна на основе заполнения 67 или м9 третьим звуком, что, конечно, не делает музыку композитора «общительной». В целом сложность мелодики в большой степени обусловливается поэтическим источником. Так, например, несколько проще (насколько это возможно у Веберна) выглядят мелодии ор. 12; ор.2З и 25 на стихи Х. Ионе, напротив, чрезвычайно сложная поэзия Г. Тракля повлекла за собой соответствующее музыкальное воплощение в ор. 14.
Остановимся на формообразующих свойствах мелодии в целом и как эти свойства проявляются в музыке Веберна. Мелодия имеет «свои собственные возможности воздействия на музыкальное целое, на создание единства и законченности музыкальной формы, подобно гармонии или метроритму» [23, с. 59]. К ним относятся степень сходства мелодических построений и их способность к расчленению музыкальной формы. Л.А. Мазель и В.А. Цукерман подчеркивают формообразующее значение построений, приближающихся по строению к гамме. Об этом же пишет и В.Н. Холопова: «Методика способна играть самостоятельную формообразующую роль тогда, когда в ней особенно ярко выражена ее природная основа – секундовое движение» [23, с. 59]. К формообразующим свойствам поступенной линии В.Н. Холопова относит «...возможность объединить непрерывным движением какие – либо участки формы, и возможность подчеркнуть конечную точку, цель движения, и способность линии нести в себе ладовость, проецируя ладогармоническую структуру по горизонтали» [23, с. 7].
Рассматривая мелодии Веберна, можно прийти к выводу о том, что Веберн как бы намеренно старается избежать одного из самых «мелодичных» интервалов – секунды, а предпочитает резко диссонирующие широкие интервалы – септимы, тритон, ноны. В связи с этим мелодика композитора более инструментального, чем вокального типа. Она лишена, как выше сказано, формообразующей силы. Однако, надо учесть, что вокальная партия непосредственно связана с поэтическим текстом, который сам по себе, своей структурой диктует в некоторой степени строение произведения и является важным средством формообразования.
Помимо рассмотренных нами гармонии, ритма и мелодики с точки зрения их формообразующих функций, некоторую роль в формировании целого играют такие средства музыкальной выразительности, как динамика и тембр . Конечно, их формообразующая роль намного меньше;
Общество
Общество. Среда. Развитие № 3’2021
яснее она проявляется в произведениях крупной формы и в сочетании с другими, более сильными факторами.
Так, Л.А. Мазель и В.А. Цуккерман пишут: «Отсутствие самостоятельной гром-костной организации в музыке связано [...] с относительной несамостоятельностью выразительной и особенно формообразующей роли динамики. Например, нарастания и спады силы звука внутри мелодии, будучи важным средством выразительности, все же в большинстве случаев скорее органически сопутствуют развитию мелодии, определяемому в основном другими ее сторонами, нежели непосредственно формируют это развитие» [18, с. 313]. Тем не менее, динамические перепады, гром-костные контрасты все же имеют расчленяющее значение. «Основные предпосылки и выразительные возможности гром-костной динамики в музыке очевидны. Громкие звуки при прочих равных условиях сильнее воздействуют на нервную систему, больше возбуждают, раздражают, нежели тихие. Точно так же извлечение громкого звука требует большего напряжения, большей энергии, чем извлечение тихого. Усиление звука обычно связывается поэтому с нарастанием напряжения, а ослабление – с затуханием, успокоением» [18, с. 312]. Динамика у Веберна особо тщательно отшлифована. Ей уделяется не меньшее внимание, чем другим средствам выразительности. Средний диапазон динамических оттенков у композитора: PPP-P. Предпочтение тихих, приглушенных звучностей, отсутствие резких динамических контрастов дало даже повод «окрестить» композитора «гением тишины», «маэстро пианиссимо». В связи с этим нивелируется формообразующее значение динамики у Веберна ввиду малой протяженности форм (вплоть до нескольких секунд звучания), выдержанным общим динамическим фоном.
Формообразующую функцию может нести и тембр , особенно в произведениях большой протяженности: «С ролью тембра в области широко понимаемой музыкальной драматургии связанны его формообразовательные возможности, в более тесном смысле – его расчленяющее и объединяющее значение. Очевидно, что сохранение на протяжении какого – либо отрывка одного и того же тембра служит фактором, способствующим и объединению этого отрывка в одно целое, и более резкому его противопоставлению соседним частям, где господствуют другие тембры, то есть более ясной расчлененности» [18, с. 328].
При помощи тембра возможно выделение какого-либо целого (так же, впрочем, как и при помощи динамики) – отдельный звук, аккорд и др. Однако, это более относится к фонической, нежели формообразующей стороне. Как уже отмечалось, произведения Веберна отличаются небольшой продолжительностью, да и само понятие «тема» теряет свой смысл в классическом понимании, как «лицо» произведения.
В музыкальной практике всех времен важным средством формообразования является ритмическая повторяемость материала на различных формальных уровнях от мотива до целой темы и даже более. Именно она является гарантом органичного восприятия музыки, обеспечивая цельность и логику формы и музыкального развития. Частным примером такой повторности является репризность. Соответственно нововенской доктрине «избежания» с этим традиционным средством было покончено. Рассматривая нотную графику вебер-новских пьес, можно видеть только постоянное обновление ритмических рисунков. Попытка их систематизации (как мы выяснили, ее нет) или отдельная выписка заставили бы нас использовать ровно такое же количество бумаги, какое занимает все произведение. Каждая проявляющаяся ритмоформула – новая. К счастью, в каком-либо «каталоге» ритмоформул нет необходимости, все «систематизировано» самим композитором, ни одна ритмоформула не повторяется. Даже в вокальной партии нет сходных ритмических оборотов.
Музыкальная фактура рассматриваемого произведения зрительно и на слух не воспринимается ни горизонтально, как разновидность исторически сложившихся форм полифонии, ни вертикально в аспекте гомофонии или аккордового склада, а диагонально.
Результаты и выводы
Что же остается, если композитор сознательно избегает испытанных историей музыкального искусства средств? Остается:
-
1) Темперированная система организации звуковысотности, исторически сложившихся в течение ряда веков. Система эта настолько утвердилась, что 12 неповторяющихся звуков в пределах октавы постепенно стали восприниматься как единая общность.
-
2) Существенным формообразующим средством является текст. И дело не только в том, что поэтический текст с формальной точки зрения организован – в нем может быть привнесен стихотворный размер, яв-
- ление, в какой – то мере аналогичное музыкальному ритму и рифме, но есть созвучия в конце стихотворных строк, вызывающие аналогию с музыкальными кадансами. Но даже в случае, если размера и рифм в тексте нет, он все равно организован на основе смысловой и формальной (вытекающей из звуковых норм грамматики) логики. Музыка, как показывает история, издавна обращается к тексту как к вспомогательному средству формообразования.
-
3) Ритм, теряя у Веберна столь важное формообразующее свойство как повторность, тем не менее, сохраняет две важные функции – времяизмерительность и ак-центность. Глубоко скрытая в музыке Веберна пульсация по – прежнему остается, выступая объединяющим фактором. Разумеется, мы осознаем, что многочисленные ritenuto и смены размеров и темпов подчас разрушают единую цельность ритма.
-
4) Используемые А. Веберном тембры традиционных музыкальных инструментов, на протяжении многих веков связанных с музыкой, являются тем фактором, который (как, впрочем, и другие – обстановка в концертном зале, одежда исполнителей) создает фактор восприятия музыки как произведения искусства европейской формации.
Если исполнить произведения А. Веберна на музыкальном синтезаторе с незнакомыми слуху тембрами (конечно, с определенной звуковысотностью), восприятие этой музыки как «чужой» будет много сильнее. Эти «внешние» факторы являются связующей нитью к восприятию и пониманию музыки композитора. Современные музыкально-компьютерные технологии позволяют по-новому взглянуть на проблемы формообразования в современной музыке; теория музыкальных форм была значительно расширена в музыковедении. «Результаты таких исследований могут быть использованы при анализе музыкальной формы, при разработке программы варьирования заданной мелодии с помощью МКТ, при синтезе новых мелодий, а также в задачах стилеметрии, когда способ варьирования рассматривается в качестве одной из характеристик, отражающих индивидуальность композитора, особенности жанра и т. п. Порой формообразование опирается на «идеальное конструирование» (А. Веберн, П. Булез), на «произвол» (Дж. Кейдж), на «непредсказуемость» алеаторики (К. Штокхаузен). Сталкиваются полярные принципы: идеальный расчет и свобода выбора. Обновление высотной организации музыкальной тка- ни, возросшая роль тембра, сонорности фактуры повлекли за собой изменения в области формообразования» [7, с. 214].
Принципы музыкального программирования, или программирования музыки с применением МКТ позволяют провести аналогии с особым программированием, заложенным в додекафонной, серийной музыке, когда серия стала основным формообразующим импульсом произведения для формирования различных её вариантов: «Принципы формообразования в серийной музыке Веберна исходят из специфики серии как уникального композиционного элемента, в котором закодированы все важнейшие параметры произведения индивидуальный рельеф звукового материала, звуковысотная система, структурные черты. Одной из важнейших особенностей музыки Веберна является обусловленность музыкального формообразования закономерностями визуальных видов искусств» [17, с. 9]. Возможности программирования современных МКТ раскрывают перед композитором целую «палитру» возможных вариантов развития заданного материала (в том числе, например, и серии) и позволяет творить в новом технологическом пространстве, конструируя музыкальную образность, облачая ее в музыкальную форму: «Благодаря интеллектуализации персональных компьютеров (возможности программирования без использования алгоритмических языков программирования), наличию встроенных систем аналитических вычислений, обилию диалоговых средств работы с табличными, текстовыми, графическими, музыкальными объектами и т. д., а также в связи с развитием специального программного обеспечения возникли реальные возможности синтеза композиции с теорией информации, объединения музыкальных параметров с акустическими посредством серийного комбинирования. Этот же принцип, к примеру, использовал еще А. Веберн, который рассматривал серию как категорию внесубъ-ективную» [7, с. 214].
Таким образом, в музыке Веберна достигнут определенный аудиовизуальный синтез закономерностей развития музыкального материала, особого рода конструирование программирует формообразование и проявляющийся во всех аспектах композиции.
Как отмечает Е.В. Литвих, «в вебер-новской концепции музыкальной формы отражается характерное для искусства XX века восприятие Вселенной как неделимого целого, неизменного по своей сути,
Общество
но при этом находящегося в бесконечном движении и видоизменении» [17, с. 22]. Формообразование в музыке А. Веберна демонстрирует определенные предпосылки, характерные для современной музыки, созданной при помощи МКТ с применени- ем музыкально-компьютерного программирования [7; 8]. Серию можно представить как некий прообраз звукового и тембрового моделирования. Она может быть уподоблена набору звуковысотных симво- лов, которые с помощью средств МКТ допустимо максимально видоизменять, в том числе темброво.
Автор выражает глубокую признательность за помощь в подготовке материалов исследования кандидату искусствоведения, доценту кафедры истории музыки Дальневосточ ной государственной академии ис кусств Владимиру Анатольевичу Федотову .
Список литературы Формообразование в музыке А. Веберна: предпосылки музыкально-компьютерного программирования
- Белов Г.Г., Горбунова И.Б. Новый инструмент музыканта // Общество: философия, история, культура. – 2015, № 6. – С. 135–139.
- Берков В.О. Формообразующие средства гармонии. – М.: Советский композитор, 1971. – 343 с.
- Бершадская Т.С. Лекции по гармонии. – Л.: Музыка, 1985. – 238 с.
- Васина-Гроссман В.А. Вокальные миниатюры Антона Веберна (к изучению вокальных стилей XX века) // Музыкальный современник. Вып. 5. – М.: Сов. композитор, 1984. – С. 273–287.
- Веберн А. Лекции о музыке, письма. – М.: Музыка, 1975. – 143 с.
- Гончаренко С.С. Вопросы музыкального формообразования в творчестве композиторов XX века. – Новосибирск: НГК им. М.И. Глинки. 1997. – 164 с.
- Горбунова И.Б. Музыкальное программирование, или программирование музыки и музыкально-компьютерные технологии // Теория и практика общественного развития. – 2015, № 7. – С. 213–218.
- Горбунова И.Б., Заливадный М.С., Кибиткина Э.В. Музыкальное программирование / Уч. пос. для студ. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2012. – 190 с.
- Горбунова И.Б., Романенко Л.Ю., Чибирев С.В. Моделирование процесса музыкального творчества с использованием музыкально-компьютерных технологий // Вестник Иркутского государственного технического университета. – 2013, № 4 (75). – С. 16–24.
- Горбунова И.Б., Чибирёв С.В. Компьютерное моделирование процесса музыкального творчества // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2014, № 168. – С. 84–93.
- Горбунова И.Б., Чибирёв С.В. Музыкально-компьютерные технологии: к проблеме моделирования процесса музыкального творчества: монография. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2012. – 159 с.
- Горбунова И.Б., Чибирев С.В. Музыкально-компьютерные технологии и проблема моделирования процесса музыкального творчества // Региональная информатика «РИ-2014». Материалы XIV Санкт-Петербургской международной конференции. – СПб.: Санкт-петербургское общество информатики, связи и управления, 2014. – С. 293–294.
- Гуляницкая Н.С. Введение в современную гармонию. – М.: Музыка, 1984. – 256 с.
- Денисов Э. Додекафония и проблемы современной композиторской техники // Музыка и современность. Вып. 6. – М.: Музыка, 1968. – С. 478–523.
- Кудряшов Ю.В. Характерные особенности техники и формы ранних произведений Веберна // Проблемы музыкальной науки. Сборник статей. Вып. 2. – М.: Сов. Композитор, 1973. – С. 345–371.
- Курбатская С.А. Серийная музыка: вопросы истории, теории и эстетики: монография. – М.: ТЦ Сфера, 1996. – 138 с.
- Литвих Е.В. Концепция формы в серийной музыке Антона Веберна в контексте визуальных искусств XX века / Автореф. ... дисс. канд. иск. – Саратов, 2009. – 28 с.
- Мазель Л.А., Цукерман В.А. Анализ музыкальных произведений. – М.: Музыка, 1967. – 752 с.
- Порфирьева А.Л. Эстетика австро-немецкой поэзии начала XX века и камерное вокальное творчество Веребрна // Жанрово-стилистические тенденции классической и современной музыки. Сборник трудов ЛГИТМиК. – Л.: ЛГИТМиК, 1980. – С. 71–86.
- Скребкова-Филатова М.С. Фактура в музыке: художественные возможности. Структура. Функции. – М.: Музыка, 1985. – 285 с.
- Стравинский И. Диалоги. Воспоминания, размышления, комментарии. – Л.: Музыка, 1972. – 498 с.
- Холопова В.Н. Вопросы ритма в творчестве композиторов первой половины XX века. – М.: Музыка, 1971. – 302 с.
- Холопова В.Н. Мелодика. Научно-методический очерк. – М.: Музыка, 1984. – 88 с.
- Холопова В.Н., Холопов Ю.Н. Антон Веберн. – М.: Советский композитор, 1984. – 319 с.
- Gorbunova I.B. Music Computer Technologies in the Perspective of Digital Humanities, Arts, and Researches // Opcion. V. 35. – 2019, № SpecialEdition 24. – P. 360–375.
- Gorbunova I.B., Chibirev S.V. Modeling the Process of Musical Creativity in Musical Instrument Digital Interface Format // Opcion. Vol. 35. – 2019, № Special Issue 22. – P. 392–409.
- Gorbunova I.B., Zalivadny M.S. The Integrative Model for the Semantic Space of Music: Perspectives of Unifying Musicology and Musical Education // Music Scholarship. – 2018, № 4 (33). – P. 55–64.