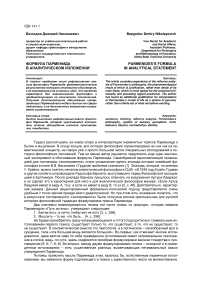Формула Парменида в аналитическом изложении
Автор: Безгодов Дмитрий Николаевич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье предложен опыт рефлексивного анализа философии Парменида, феноменологическим результатом которого становится обоснование, а не опровержение ее основных идей, что наиболее характерно для аналитической философии и предшествующего ей логического позитивизма. Получено дополнительное обоснование интерпретации Парменидовой модели бытия как сферы подлинного, а не бесконечного множества полагаемого существующим.
Бытие, мышление, рефлексивный анализ, философия парменида, аппарат чувственного восприятия, истина, заблуждение, иллюзия, противоречие, тождество
Короткий адрес: https://sciup.org/14940617
IDR: 14940617 | УДК: 141.1
Текст научной статьи Формула Парменида в аналитическом изложении
Трудно рассчитывать на новое слово в интерпретации знаменитых тезисов Парменида о бытии и мышлении. В конце концов, вся история философии сориентирована на них как на семантический эпицентр, не говоря уже о просто большом числе специальных исследований и историко-философских изложений. Тем не менее автор решается предложить еще один мысленный эксперимент в обоснование формулы Парменида. Своеобразной вдохновляющей провокацией для постановки «эксперимента» стало упоминание одного эпизода истории новейшей философии в книге В.В. Васильева «Трудная проблема сознания» [1]. Эпизода, который, по мнению У. Куайна, можно считать началом аналитической философии в США: «В 1939 году Куайн, Гудман и другие коллеги сопровождали Рудольфа Карнапа, выступавшего перед Философской ассоциацией в Балтиморе. После доклада Карнапу пришлось отвечать на возражения Артура Лавджоя, и он сделал это в характерной для него и для аналитической философии манере: «Если Артур Лавджой имеет в виду А, то р, а если он имеет в виду В, то q» [2, с. 46]. Действительно, характерная манера. Данный акцентированный формально-логический подход представляется очень удобным с точки зрения прежде всего дидактической. Но при этом есть основание полагать, что в результате поставленного «эксперимента» была получена вполне оригинальная для русской историко-философской традиции формулировка тезиса Парменида.
Два ключевых взаимоувязанных тезиса той части поэмы «о природе», которая названа Парменидом «Путь истины», утверждают следующее:
-
1. Бытие есть, а ничто (небытие) не есть [3, с. 296].
-
2. Мыслить – то же, что быть… [4, с. 296].
Не будем пренебрегать сразу напрашивающимся и оттого подозрительно тривиальным истолкованием первого тезиса: существует только то, что существует, а то, что не существует, то не существует. В лингвистическом смысле это тавтология, а в логическом – своеобразный круг в суждении, типа «эта большая вещь является большой». Во-первых, как отмечают многие исследователи, даже взятое само по себе приведенное истолкование имеет нетривиальное приложение в логике, ведь, по сути, здесь содержится прообраз формулировки законов тождества и противоречия [5; 6; 7; 8; 9]. Во-вторых, между двумя формулировками тезиса – исходной и в приведенном истолковании – есть существенная разница, высвечивающая нетривиальный смысл утверждения Парменида.
Пытаясь прояснить мысль Парменида этим, казалось бы, естественным первичным истолкованием, мы изменили форму подлежащего в тезисе с единственного числа на множественное.
И это многое меняет. Когда мы говорим, что красные вещи являются именно и только красными – это действительно тавтология: неоспоримая и малоинформативная. Но если бы нам вздумалось заявить, что существует только красное – это был бы сильный тезис, хотя и ложный. И когда Парменид утверждает, что бытие есть, а небытия нет, он тем самым категорически утверждает невозможность любых моментов небытия.
Вот человек берет в руки полено. На вопрос старого друга: «Есть ли у тебя полено?» человек справедливо отвечает: «Есть». На другой вопрос: «Существует ли это полено?» человек с грустью о душевном состоянии друга справедливо отвечает: «Конечно, существует». На следующий вопрос: «Существует ли это полено на самом деле?» человек начнет акцентированно улыбаться другу, возьмет его за руки, скажет, что все хорошо, попросит сильно не волноваться и ответит, что, как ему самому кажется, полено действительно существует, но он готов прислушаться к мнению друга, если что. Если друг успокоит его, сказав, что он не псих, а это всего лишь задачка по философии, то человек сможет порассуждать – какие логически возможны варианты ответов?
-
1. Что полено на самом деле существует.
-
2. Что полено существует, но не на самом деле.
-
3. Что полено на самом деле не существует.
-
4. Что полено не существует, но не на самом деле.
(Последний ответ, несмотря на его интеллектуальную экстравагантность, окажется самым плодотворным в качестве ключа к тезису Парменида.)
Далее человек мог бы отметить, что именно уточнение «на самом деле» приводит его в замешательство, заставляя продуцировать и внимательно пересматривать все логические альтернативы самого очевидного ответа: «полено существует на самом деле». (И здесь вновь следует отметить, что именно этот момент подлинности, выраженный оборотом «на самом деле», является семантическим ядром Парменидова учения о бытии.)
Проще всего было ответить на самый первый вопрос: да, конечно, у меня есть полено. Здесь можно предположить, что друг попросту не заметил, что оно у человека в руках, и только поэтому спросил. На второй вопрос ответить сложнее в силу нелепости предположения, что может не существовать то, что у человека, как выяснилось, существует. И только третий вопрос понуждает нас задуматься над возможностью мнимого существования.
Не будем пока спешить с выводами из рассматриваемой ситуации, просто продолжим наш мысленный эксперимент. Дело происходит на даче, и друзья «приговаривают» полено к камину. Сухое, оно быстро сгорает, зола и пепел от него смешиваются с останками других дров. Теперь, если старый друг повторит все три вопроса относительно того же самого полена, о котором они только что рассуждали, человек, по всей видимости, ответит отрицательно: «Этого полена больше не существует ни у меня, ни вообще, и это так на самом деле». И это кажется абсолютно неопровержимым, ведь он уже не может предъявить это полено как свидетельство его существования. Но утверждение о несуществовании этого полена не означает ли утверждения его небытия? И не означает ли это, что небытие существует хотя бы в отношении этого несчастного полена? Пусть как только момент мысли в отношении того, что было уничтожено, но небытие все-таки есть?! Но и против такой малости Парменид возражает: небытия не существует вообще: ни помыслить, ни изречь его невозможно [10, с. 296]. Можно только мнимо говорить о нем, но это тема другой части поэмы. А здесь пока попробуем свести воедино результаты мысленного эксперимента в связи со вторым ключевым тезисом Парменида – о тождестве мышления и бытия.
Прежде всего отметим, что наше полено сгорело не полностью. Все то, благодаря чему двое друзей могли говорить об этом полене, даже не указывая на него жестами, все то, благодаря чему они отличали это полено от других вещей, все то, благодаря чему каждый был уверен, что другой понимает, о какой именно вещи идет речь, – все это не сгорело, ведь разговор о полене и взаимопонимание в разговоре остались возможны и после того, как полено, отдав тепло камину, обратилось в золу. В этом смысле все осталось настолько без изменений, что даже удивительно: легко представить – и картина будет выглядеть очень правдоподобно: что вначале, для завязки разговора, человек взял в руки полено, показал другу, повертел в руках минуту, может быть, задал первый вопрос и положил полено в камин. А потом был второй вопрос, третий, и ответы, и встречные вопросы, аргументы и возражения, комментарии и заметки на будущее, и разговор продлился час, два, три, до обеда, за обедом и после, и другие поленья были отправлены в камин уже машинально, не вызвав никакого любопытства, потому что главное было продемонстрировано одним-единственным предъявлением одного экземпляра этого рода вещей. Очевидно, конечно, что полено в качестве предмета речи и размышления наших друзей сгореть не могло и это качество есть какой-то иной род его существования, нежели в момент ощутимого предъявления. В дальнейшем развитии философии, уже после Сократа, интуицию такой неуни- чтожимой основы любой вещи выразит и зафиксирует Платон в понятии «идея». Именно Парме-нидова интуиция бытия как единого начала мироздания стала одним из важнейших источников теории идей [11; 12; 13].
Но продолжим рассмотрение результатов нашего мысленного эксперимента. Мы взяли на заметку два ключа к тезису Парменида: понятие «на самом деле» и суждение «полено не существует не на самом деле».
Последнее суждение поражает своей какой-то усиленной абсурдностью. Оно вообще кажется лишним в перечне альтернативных ответов на вопрос - «существует ли это полено на самом деле?». Но по своей логической форме оно отличается от трех других, и, с точки зрения формальной логики, без этого суждения перечень возможных ответов был бы неполным. Так что стоит присмотреться и к тому сообщению о положении вещей, которое силится передать нам это суждение, и к тем смысловым контекстам, которые провоцируют ум предполагать его абсурдность.
Итак, «полено не существует не на самом деле». Если так, то, значит, «на самом деле полено существует»? Однако нам ясно сообщается, что оно «не существует», а то, что «не на самом деле» - это какое-то уточнение, очень важное, но не отменяющее, а именно уточняющее смысл высказывания.
Высказывание «полено существует на самом деле» представляется нам абсолютно ясным. Мы понимаем, что такое иллюзия, мы понимаем, что какая-то конкретная вещь нам может мерещиться, мы можем принять за нее другую вещь. Поэтому уточнение «на самом деле» в этом высказывании сообщает нам важную дополнительную информацию: что это не иллюзия, что вещь, кажущаяся нам поленом, действительно полено. Итак, в этом случае мы противопоставляем некое действительное положение дел перцептивной иллюзии, кажимости, обусловленной опосредующей функцией аппарата чувственного восприятия.
Когда же мы утверждаем, что «полено не существует на самом деле», мы попадаем в более сложную верификационную ситуацию. Хотя смысл высказывания так же ясен, как и в предыдущем случае. Мы понимаем, что суждение «полено не существует» могло быть и ошибочным; оно могло быть сделано на том, например, основании, что мы никогда в своей жизни не встречали полена (или именно такого полена, о котором идет речь). Но это могло быть случайностью. Или нам могло показаться, что полено уничтожено. Но наш друг, как фокусник-иллюзионист, мог подменить его другим; так что в камине сгорело другое полено, а наш образец лежит в широком внутреннем кармане его пиджака. Понимая, что в принципе существует возможность таких ошибок, мы отчетливо понимаем смысл уточнения «на самом деле». Оно означает либо то, что такое полено в принципе не может существовать (то есть что утверждение о его существовании противоречит фундаментальным законам действительности), либо то, что уничтожение этого полена не было перцептивной иллюзией, нам не показалось, оно действительно сгорело в камине. Последняя альтернатива не добавляет ничего нового к анализу ситуации: предыдущий ответ уже дал нам повод осмыслить возможность перцептивной иллюзии и тем не менее сохраняющуюся возможность апеллировать к установлению факта посредством аппарата чувственного восприятии. Однако первый вариант значения оборота «на самом деле» добавил к общей картине представление о фундаментальных законах действительности, с которыми иногда не согласуются кажущиеся ситуации. (Не будем сейчас задаваться проблемой приоритета логических законов или законов природы, нам достаточно понимать, что существуют некие законы, превращающие в мнимости некоторые наши воображаемые или языковые конструкции.) Таким образом, в нашем анализе конституируются два мира, достижимые для человеческого сознания: мир кажимостей, репрезентируемый в сознании при определяющем действии аппарата чувственного восприятия, и мир подлинных вещей, репрезентация которых в сознании удостоверяется только при рассмотрении их в контексте знания фундаментальных законов действительности. Очевидно, что подлинные вещи имеют более высокий статус в реальности, нежели кажимости. Если что-то и есть «на самом деле», то это эти «подлинные вещи».
И вот наш последний «абсурдный» ответ оказывается как бы неспособным всерьез вписаться ни в один, ни в другой мир.
Если «полено не существует не на самом деле», то в каком смысле оно «не существует»? Из предыдущего анализа видно, что установить, что какая-то вещь не существует, гораздо сложнее, нежели установить ее существование. Верификация обоих утверждений в контексте фундаментальных законов действительности - дело одинаковой сложности. Если понятие об этой вещи, сформулированное на основе данных аппарата чувственного восприятия, противоречит этим законам, то мы имеем дело с перцептивной иллюзией, и, значит, на самом деле вещь не существует. Если противоречия нет, то вещь существует. Более того, если понятие о какой-то вещи, сформулированное по косвенным эмпирическим данным, также не противоречит фунда- ментальным законам действительности, то следует признать, что и такая вещь может существовать, и поскольку предъявление аппарату чувственного восприятия всех вещей мира заведомо невозможно и к тому же действие этого аппарата отнюдь не является безупречным, то следует признать эту вещь существующей за невозможностью доказать обратное.
Что же касается той ситуации, когда человек оказывается свидетелем уничтожения вещи, то следует обратить внимание, что такое удостоверение в «несуществовании вещи» по своему верификационному потенциалу несимметрично ситуации удостоверения в «существовании вещи». Первое сильно уступает второму. Для эмпирического подтверждения «существования вещи» - полена в нашем примере - человек располагает возможностью неопределенно большого количества предъявлений на протяжении неопределенно долгого времени неопределенно большому количеству людей (которые выступают друг для друга свидетелями-экспертами, каждый со своим индивидуальным аппаратом чувственного восприятия) в неопределенно большом количестве ракурсов, положений при задействовании неопределенно большого количества сочетаний каналов восприятия и их настройки. Возможность же эмпирического подтверждения «несуществования вещи» для человека существенно ограничена событием ее уничтожения. Количество экспертов и сочетаний каналов восприятия может быть достаточно большим. Но все-таки это событие уникально; свершившись, оно уже не может повториться во времени, и потому любой обоснованный запрос других, новых экспертов будет существенно ставить под сомнение его достоверность. Правда, существует практика консервации следов уничтожения. Но она обременена массой методологических проблем, в частности тем, что связь следа с источником надежнее всего проверяется при сопоставлении с источником, а он уничтожен.
Теперь мы можем в полной мере оценить анализируемое высказывание и понять, что оно не абсурдно, а парадоксально и своей парадоксальностью оно высвечивает уникальность и незыблемость сферы подлинного, того, что подчеркивается оборотом «на самом деле».
Итак, утверждая, что «полено не существует не на самом деле», мы утверждаем, что в каком-то смысле оно все-таки существует. Если оно существует на уровне кажимости и только, если это всего лишь барахлит аппарат чувственного восприятия, то мы не можем утверждать, что оно не существует не на самом деле. Напротив, оно на самом деле не существует, а только кажется нам существующим. Если же оно существует в сфере подлинного, то наше высказывание вводит нас в ситуацию прямо-таки невероятного: нам показалось, что полено не существует? И тут мы с полной очевидностью констатируем один из фундаментальных законов сознания: всякая вещь может показаться существующей, но ни одна вещь никогда не может показаться несуществующей.
В самом деле, чтобы утверждать о любой «только лишь воображаемой» вещи, что она не существует, ее необходимо воображать с теми же качественными характеристиками и в тех же количественных параметрах, что и существующую. Если же мы попытаемся вообразить уничтожение вещи (горение полена в камине), чтобы все-таки добиться кажимости ее несуществования, то мы с удивлением обнаружим, что наряду с воображаемым процессом уничтожения в нашем сознании отлично сохраняется без какого-либо ущерба исходный образ вещи: есть образ горящего полена, есть образ золы, но и само полено в сознании целехонько. Просто это разные образы разных вещей, кажущихся вполне себе существующими. Воистину небытие ни помыслить, ни выразить нам не удастся. Слово Истины верно.
Таким образом, мы приходим к выводу, что бытие по Пармениду следует определить как сферу подлинного. И это подлинное как предмет познания достижимо только для мысли; органы чувств воспринять его не способны.
Второй тезис, как мы помним, отождествляет бытие и мышление. Парменид предлагает и более развернутую формулировку: «то же самое мысль и то, о чем эта мысль существует. Ибо без бытия, о котором она существует, мысли тебе не найти» [14, с. 297].
Этот тезис уже подтвержден в ходе предшествовавшего анализа: мы видим, что сфера подлинного, каковая и есть бытие, открывается только мыслящему уму. Здесь мы выносим за скобки конкретную роль аппарата чувственного восприятия, достаточно только зафиксировать его подчиненность деятельности ума.
Впрочем, существует более простой аргумент в пользу исключительного положения мысли в отношении бытия. Любое реальное чувственное впечатление - будь то цвет, форма, звук, запах, вкус и т. п. - мы можем сразу же полагать в сознании либо как запечатленное в памяти, либо как сконструированное в воображении. И по своему содержанию, апеллирующему к конкретному телесному ощущению, любое из впечатлений, полагаемых в сознании, не будет отличаться от полученного в процессе непосредственного телесного ощущения. Мы уже видели, что вещь воображаемая по своим чувственным характеристикам не отличается от вещи чувственно воспри- нимаемой. Правда, нельзя не отметить различия в интенсивности, как говорят, в «живости» впечатления. Но именно это различие не идентифицируется самим аппаратом чувственного восприятия, как и само различие вещей в воображении и в процессе чувственного восприятия. Таким образом, мы вновь убеждаемся, что инстанцией, удостоверяющей само бытие вещей, может быть только ум, мышление.
Ссылки:
-
1. Васильев В.В. Трудная проблема сознания. М., 2009.
-
2. Там же.
-
3. Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. М., 1989.
-
4. Там же.
-
5. Богомолов А.С. Античная философия. М., 1985.
-
6. Шафаревич И.Р. Сочинения. Т. 2. М., 1994.
-
7. Ивлев Ю.В. Логика. М., 1998.
-
8. Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западно-европейской философии. М., 1986.
-
9. Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. М., 2000.
-
10. Фрагменты ранних греческих философов. С. 296.
-
11. Богомолов А.С. Указ. соч.
-
12. Шичалин Ю.А. Три этапа исторического развития античной философии // История философии. Запад – Россия – Восток. Книга первая. М., 1996.
-
13. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1. СПб., 1994.
-
14. Фрагменты ранних греческих философов. С. 297.
Список литературы Формула Парменида в аналитическом изложении
- Васильев В.В. Трудная проблема сознания. М., 2009.
- Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. М., 1989.
- Богомолов А.С. Античная философия. М., 1985.
- Шафаревич И.Р. Сочинения. Т. 2. М., 1994.
- Ивлев Ю.В. Логика. М., 1998.
- Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западно-европейской философии. М., 1986.
- Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. М., 2000.
- Шичалин Ю.А. Три этапа исторического развития античной философии//История философии. Запад -Россия -Восток. Книга первая. М., 1996.
- Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1. СПб., 1994.