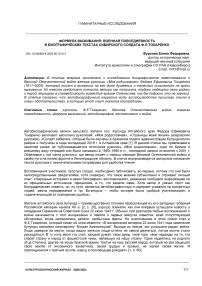Формула выживания: военная повседневность в биографических текстах сибирского солдата Ф.Е. Токаренко
Автор: Фурсова Е.Ф.
Журнал: Культурологический журнал @cr-journal
Рубрика: Гуманитарные исследования
Статья в выпуске: 4 (62), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье впервые привлечено к исследованию биографическое повествование о Великой Отечественной войне автора рукописи «Моя родословная» Федора Ефимовича Токаренко (1911–2003), который пишет о выпавших на его долю душевных и телесных испытаниях на грани выживания. Из текста предстает личность автора как патриота, глубоко любящего свою родину и народ, верящего в справедливость возмездия врагам Отечества, как бы пафосно это не звучало. В статье показано, что автобиографичный нарратив есть воспроизводство прошлого опыта в новых обстоятельствах, в которых этот опыт оказался востребован.
Рукопись, Ф.Е.Токаренко, Великая Отечественная война, военная повседневность, формула выживания, автобиография, воспоминания о войне
Короткий адрес: https://sciup.org/170211164
IDR: 170211164 | DOI: 10.34685/HI.2025.56.70.013
Текст научной статьи Формула выживания: военная повседневность в биографических текстах сибирского солдата Ф.Е. Токаренко
Автобиографические записи сельского жителя пос. Кулунда Алтайского края Федора Ефимовича Токаренко включают несколько рукописей: «Моя родословная», «Страницы моей жизни» (ксерокопия рукописи), «Солдат сибиряк», которые были изучены в Архивном отделе администрации Кулундинского района и получены в ходе экспедиций 2018 г. в Алтайском крае [1]. В данной статье мы привлекаем в качестве ранее не публиковавшегося источника рукопись «Моя родословная», судя по бумаге и внешнему виду тетрадей они были написаны в 1980–1990-е гг., последние записи относятся к 2001 г. Обратимся к той части рукописи, где автор пишет о первых месяцах Великой Отечественной войны и своем пути на линию фронта в Ленинградскую область. В статье воспроизводится авторское написание текста рукописи с незначительными поправками для удобства чтения.
Воспоминания участников, простых солдат, необходимо публиковать, во-первых, потому что они были непосредственными свидетелями, хотя очевидно, что такое мнение субъективно и отражает личный опыт. «Народные историки» в своих биографиях, воспоминаниях, дневниках сообщали информацию не из официальных источников, официозов, а то, что видели сами. Хотя автор и указал текст как биографическая повесть, он, по сути, является автобиографичным и содержит указания на конкретных людей, места передвижения и пр. Во-вторых – чтобы история была «доброй учительницей» и «хранительницей от повторения ошибок».
Жители алтайского села Кулунда – преимущественно потомки переселенцев из юго-западных губерний Российской империи начала ХХ в. [2, с. 20], хорошо помнили, как они впервые услышали новость о нападении Германии на Советский Союз 22 июня 1941 г. Обычно при разговоре любые воспоминания о войне начинаются с того воскресенья и памяти о первых минутах известия, всей сопутствующей обстановки, когда запомнились детали, необычные факты. Не исключением в этом плане стал и Ф.Е.Токаренко, который писал об этом моменте: «В воскресение вечером 22 июня 1941 года население Кулунды смотрело кинокартину “Богдан Хмельницкий”. Выходя из театра, мы услышали радио: война. Люди замерли на месте, когда радио затихло люди стояли не смели двигаться, потом молча стали расходиться. В ту ночь мало кто спал, каждый думал: свои думы, своё горе, свои надежды на то, кто спасет страну и народ от фашистской чумы, напавшую на нашу страну. Одни надеялись на родного отца Сталина, другие на мощь Красной армии, третьи на наш русский народ, который не раз защищал свою землю от иноземного захватчика, своей грудью и кровью, не жалея своей жизни. Я присоединился к третьей группе, народ и полководцев рождает» [1, л. 60].
* * *
Автор рукописи сосредоточился на событиях личной жизни и своем восприятии всего происходившего с ним и его друзьями, знакомыми и просто встречными людьми. Несмотря на то, что в повествовании Федор Ефимович не касался политики, одно утверждение все-таки он не смог не высказать. В частности, он пытался опровергнуть распространенное мнение о том, что народ шел воевать «за Сталина». Токаренко высказывался резко отрицательно о роли Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Союза СССР (до сентября 1945 г. – Е.Ф. ) как по вопросу подготовки к войне, так и об организации военных действий, особенно в первые месяцы: «Тогда как Сталин наоборот уничтожал лучших людей в коллективизацию, в Ежовщину, перед самой войной уничтожил лучшие военные кадры и даже рядовых офицеров, оголив полки и дивизии, военная техника оставалась на уровне гражданской войны: штык и сабля. В этом я убедился, как офицер запаса, находясь на военных сборах, о которых тут же описую. Все подтвердилось в ходе отечественной войны да хвастовством Сталина, что в будущей войне будем бить врага только на его территории. Только народ и его народные полководцы спасли Россию от гибели» [1, л. 58].
После осеннего призыва 1941 г. автор описывает события, демонстрирующие плохую подготовленность, общий беспорядок, отразившийся, в том числе, и на отсутствии планов по доставке мобилизованных солдат – вчерашних хлебопашцев – в пункты назначения. Когда поезд увез из Кулунды новобранцев, то только через неделю их погрузили в вагоны в Барнауле и доставили в Новосибирск, откуда направление было взято на запад до станции Лепихинская Приволжской железной дороги (Саратовская область). От станции километров 10-15 люди шли до села, которое когда-то было немецким, но «казалось мертвым, с него ушли все, грызуны и птицы, в домах остались стены и крыши да колодины, в которых сохранялась вода». Поскольку люди, пишет автор, до войны жили небогато, то хорошую одежду оставили дома, предвидя, что все свое придется все равно выбрасывать, так как сразу выдадут форменную одежду. Однако, в силу трагичных для Токаренко и его односельчан обстоятельств, они оказались брошены на произвол судьбы: «Начальники собрали нас у пустой школы объявили, что на этом месте будет формироваться авиадесантная бригада, сюда прибудет командования и военная техника, а мы уезжаем <…> ночью бежали, увезли с собой все наши документы. Мы остались без всяких средств к существованию и без единого документа кто мы» [1, л. 60-61].
При попытке выжить люди стали искать остатки еды по пустым амбарам, сараям, токам, огородам, фермам, где сохранились небольшие запасы прелого зерна. Группы объединялись по территориальному принципу: например, кулундинцы тоже разместились в одном доме. «Мы пожилые смотрели за молодыми, чтобы они не ели недоваренное прелое зерно и не злоупотребляли перееданием опасной пищи. Командования все не было, все это наводило ужас на нас, что мы сибиряки попали в лапы Берия, который продолжал Ежовщину, уничтожая лучших людей страны, чтобы захватить власть в ходе войны» [1, л. 62].
Когда в ноябре командование подошло, то картина была безрадостной, люди выглядели как из блокадного Ленинграда: «Зайдя в первую избу и удивились, что вместо сибиряков лежали на соломе люди: изможденны, обросшие, полуодетые, полуразутые. Пригодные лечь в госпиталь, а не прыгать с парашютом в тылу врага…» Накануне работы медицинской комиссии к празднику 7-8 ноября сибирякам выдали десантные пайки, и они как дети «отщиповали и клали в рот крошки боясь сразу съесть». Комиссия признала годными несколько десятков человек, но кудундинцев среди них оказалось только трое, как пишет автор, Филипп Голод, Гриша Куркин, Иван Цыбченко [1, л. 63].
Всем остальным командир, дав суточный паек, посоветовал ехать в г.Саратов в горвоенкомат и проситься на фронт. Автор с руководителем барнаульской группы после попытки уговорить начальника вокзала отправить их на поезде до Саратова получил отказ, прежде всего, из-за отсутствия документов («подойдет товарный поезд садитесь сами и езжайте»). Согласились ехать товарным поездом не все земляки, мотивируя тем, что больше нет сил двигаться.
По прибытии в город сразу отправились в горвоенкомат, где также не смогли найти понимания у местного начальства. В итоге военком посоветовал обратиться в мобилизационный пункт, где отправляют людей на фронт. Когда отправились на мобилизационный пункт, то там, как и в военкомате, без документов «никто не признавал», начальник пункта посоветовал обойти вокруг
Саратова воинские части, может быть, кто-то согласится взять таких мобилизованных. «Наступила зима, мы с Атамановым, Карташовым, Затонским и еще с несколькими ходячими товарищами отправились пешком вокруг города Саратова. Части были, но все укомплектованы…» [1, л. 64].
Страдая от голода и холода, все оставшиеся 90 человек решили двинуться на мобилизационный пункт, зайти всем в помещение и залечь на пол, предъявив начальству ультиматум: или их отправляют на фронт или они все тут умрут с голоду. «Мы же советские люди и стремимся защищать свою родину». Сибирякам сочувствовали офицеры пункта и, наконец, наверное, сам начальник осознал, прислал писаря, который составил форменную ведомость [1, л. 66].
Поездом людей доставили на станцию Татищево, откуда ночью шли пешком на линию фронта полураздетые люди зимой, «стали по трое браться за руки и держаться до последних сил, зная кто отстанет значит погиб…» Привели будущих защитников родины в большую промерзшую землянку с двойными нарами и оставили одних. «Народ изнемогая повалился на пустые нары в промокшей худой одежде. Мы с Атамановым, ползая на коленях, волоча за собой дрова, разожгли с трудом печь, чтобы спасти людей от гибели. Всех охватил смертельный сон, спасти их могло только тепло. Мы лежа на полу по очереди топили печку, не давая друг другу заснуть, только утром мы с Атамановым отключились и ничего не помним...» [1, л. 67]
Утром прибывших накормили «щами с тремя капустинами и куском черного хлеба» и повели в баню, где они увидели друг друга, скорее похожих на скелеты. Выдали зимнюю форму (но «без фуфаек»). Скоро была создана маршевая рота, в которую вошли сибиряки, командиром был назначен младший лейтенант Малышев, старшиной Лихошерст.
Состав с сибиряками взял путь на Москву, а оттуда они должны были ехать в Ярославль. Однако эшелон остановился на станции Восполье и командир роты пошел к начальнику эшелона, чтобы узнать, почему остановился поезд. И тут начались странные вещи: «…ему ответили, что он должен помыть людей в бане, он не поверил, но ему повторили приказ. Командир придя в вагон отдал приказ старшине помыть солдат в бане. Старшина ответил, что, выезжая он помыл людей. Командир ответил ”не будем рассуждать”. Старшина подал команду приготовиться в баню, которая была рядом, шинели не брать. Я чувствовал себя плохо и взял шинель, накинул на плечи. Мылись все и командир. Когда вышли с бани нашего эшелона не оказалось. Командир роты пробежал все линии, но эшелона не нашел. Солдаты после бани стояли раздевше, жались друг к другу…» [1, л. 68-69]
Командир повел призывников в Ярославский вокзал, где они услышали радио, которое сообщало, что идут бои за Москву и Тихвин. «Тогда мы поняли, что нас везли под Тихвин и угнали наш эшелон. Чья-то вражеская рука не допустила сибиряков к защите Тихвина», – сделали вывод люди. Когда командир роты отправился к коменданту станции, чтобы узнать о своем эшелоне, то комендант заявил, что никакого воинского эшелона не было и он ничего не отправлял и «приказал командиру освободить кабинет». Когда новобранцы узнали, что сам комендант отверг истину об их прибытии в Ярославль то, связав это со странной отправкой в баню, пришли к выводу, что «это была не только ложь, но и государственное преступление, но кому может пожаловаться бесправный солдат».
На второй день командир обратился к начальнику станции Ярославля, который дал совет обратиться в горвоенкомат. Военком, пожилой человек, внимательно выслушал Малышева и сказал: «Что в моих силах помогу». Отыскав для сибиряков старые буденовские шинели, выдал на двое суток сухой паек. Однако относительно доставки на фронт было сказано, что «здесь вам никто не поможет». Военком посоветовал самим использовать товарные поезда, так как пассажирские поезда почти не ходили.
Утром, не разобравшись куда идет поезд, новобранцы доехали до Рыбинска, где узнали, что надо было ехать на Вологду, чтобы попасть в Тихвин. Кое-как добравшись до Вологды, не нашли там старшину Лихошерста, и 15 солдат пошли по городу поискать пищи, но над городом пролетала немецкая авиация и все магазины были закрыты. Об этой критической ситуации Токаренко писал так: «Некоторые наши люди, особенно южане, обморозили руки, как наш друг Фисенко, пришлось в Вологде добыть тряпки и заматывать ему руки до самых локтей. Проехали мы километров сорок, дальше семафор был закрыт, от Вологды до Тихвина триста километров. Дальше нам предстоял пеший путь по снежной заброшенной дороге, население было эвакуировано встречались пустые села. Наш враг был голод и мороз…» [1, л. 70] Далее: «Вот уже слышим далекий грохот боя, но наши ноги подкашиваются, поддерживая друг друга, чтобы не упасть… трое суток ни крошки во рту идти дальше нет сил. К счастью в одном пустом селе в доме на печке лежал больной старик, который не мог уйти из села сообщил нам, где находится закопанная в земле картошка… Запаслись картошкой и снабдив старика мы поспешили в Тихвин, но бездорожье отнимало у нас последние силы» [1, л. 71].
В Тихвин новобранцы зашли со стороны железнодорожной станции, чтобы узнать ситуацию в городе в разведку пошел сам командир Малышев. Увидев на путях убитую лошадь, голодные люди забыли про всякую опасность, бросились к лошади и, подобрав немецкие кинжальные штыки, стали разделывать лошадь и варить в касках. Подошедший командир изложил обстановку о том, что «немца погнали назад к Волхову, до которого по линии 150 километров», таким образом снова надо было идти пешком до Волхова, где должно было быть командование Волховским фронтом. Это было в начале декабря 1941 года, когда стояли 30-40 градусные морозы [1, л. 72]. Когда в пути кончилась конина, то гонимые голодом, люди решили разойтись по одному и пойти в рабочий поселок, в который начали возвращаться жители, и попросить милостыню.
Утром полузамерзшая рота добрела до станции Волхов, куда пришел поезд с дровами. «Время было вечернее, разбитый волховский вокзал был пуст и не отоплялся. Окна от бомбежки высыпались, мы нашли кабинет с целыми окнами и битком набились». Майор на станции после телефонного разговора приказал своему офицеру отвести вновь прибывших в столовую, накормить и определить на ночлег.
Утром солдат накормили и командиру роты дали направление в 128 стрелковую дивизию в порядке пополнения живой силой. Маршрут был обозначен такой: ехать на поезде до станции Войбокалово, а там еще тридцать километров пешком до полков. Идти надо было в ночь лесом, при этом ни карты, ни компаса, ни проводника, даже часов ни у кого не было. В Войбокалово сошли с поезда, вышли на дорогу жизни, которая шла через Ладогу. По лесной проселочной дороге солдат повел командир, но дорога кончилась, начались лесные тропы, пошел снег. Ходокам казалось, что прошло много время, а лес все не заканчивался. «Люди выбились из сил, валились на снег и засыпали, а это смерть», – писал Ф.Е.Токаренко. Командир взял двух кулундинцев – Атаманова и Карташова и ушел на разведку. Не дождавшись товарищей из разведки, чтобы не заснуть и не попасть к немцам, оставшиеся люди шли тропами. Вот как описывает происходившее Федор Ефимович: «Пошли по средней тропе. Мы с Фисенко шли передом, помню вышли на поляну я упал и потерял сознание. Потом Фисенко рассказывал: я с трудом завалил тебя на свой горб и потащил остальные тянулись за мной. Пройдя поляну увидели на окраине опустевшего села дом, кругом спокойно, тихо, но кто в дому или пуст, может быть немецкий… Все мы проспали весь день мертвецким сном…» [1, л. 73-74]
По мнению Ф.Е.Токаренко, все же счастье не совсем покинуло молодых сибиряков, так как какой-то солдат с 741 стрелкового полка «шарился по опустевшему селу». Он наткнулся на избу со спящими, испугался «страшных инопланетян» и доложил обо всем своему начальству. Командир полка, получив из дивизии сообщение, что ему послано пополнение, приказал своему адъютанту встретить пополнение как положено. Адъютант взял связного командира полка и явился к в избу, однако все вновь прибывшие были «не пробудны». Он начал тормошить спящих, вот что писал об этом автор рукописи: «Я увидел лейтенанта и понял, что мы нашли свое спасение от голодной смерти и позора. Связной принес хлеба, брынзы, чая. Затопил буржуйку, люди ожили, хлеб и брынзу кушали, боясь уронить хоть крошку, горячей чай согревал остывшее тело и душу, радовалось сердце. Я попробовал вставать, но так и не встал: ноги мои распухли, обмотки врезались в тело, ботинки сжали ступни. Лейтенант сообщил, что мы еще тут переночуем а завтра перейдем в тыл полка в карантинное помещение...» [1, л. 74–75]
После бани пополнение одели в так называемую «зимнюю форму», выдали шинель, фуфайку, шапку, ботинки с обмотками. Потом пришел комиссар Панин, который описал ход войны и, в частности, Волховский фронт и поставил задачу. Пришел старшина и записал солдат в номерную форму, всем выдали тюбик с адресатом (пластмассовый герметичный футляр с вложенным в него бумажным свертком со сведениями о бойце).
В карантине солдатам пришлось пробыть не долго, так как в полку не хватало людей держать оборону, скоро пришли так называемые «покупатели». Первый был командир разведки, который рассмотрев, что все прибывшие доходяги, встал и попрощался. Потом пришел минометчик, отобрал несколько человек, остальных забрала пехота. Ф.Е.Токаренко хотел пойти минометчиком, но оказался востребованным по своей военной специальности [3, л. 50]. Автор вспоминает, что за ним пришел молодой лейтенант. Прежде чем взять оружейного мастера, он стал экзаменовать его по оружию и остался доволен. В рукописи автор детально описывает, как и на каких сломанных видах оружия проверяли его профессиональные навыки: «Начальник сказал, что он рад, что будет иметь настоящего доктора, так у нас называют на переднем крае оружейного мастера, так требует конспирация» [1, л. 76–77]. Инструмента под рукой не было никакого, и «доктор» попросил солдат собрать хоть что-то из имеющегося в наличии и на первых порах отремонтировал пулемет, за что командир Макаров объявил мастеру благодарность за восстановление пулемета. Затем отправил мастера на передней край в распоряжение командира батальона капитана Дегтярева, о чем, как пишет автор рукописи, ему сообщили: «он ждет не дождется тебя, у него такое же оружие как здесь у нас».
Таким образом, фронтовик Великой Отечественной войны детально описал свой путь до начала боевых действий в 741 стрелковом полку. Ф.Е.Токаренко был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Ленинграда».
* * *
При знакомстве с рукописями Ф.Е.Токаренко возникает вопрос, почему человек преклонного возраста взялся столь подробно описать свою жизнь на фронтах Великой Отечественной войны? В анкете он написал, что много общается с молодежью: «Ученики посещают меня на дому, с которыми я провожу беседы на военные и гуманные темы». Возможно, что именно по просьбе школьников он решился сесть за стол, поняв, что ему есть чем поделиться с подрастающим поколением. На момент начала войны Федору Ефимовичу было 34 года: с одной стороны, не был юнцом и имел жизненный опыт, с другой, имел хорошую деревенскую закалку, которая и помогла ему выжить не только на фронте, но и, как выяснилось, в процессе продвижения на линию соприкосновения. Такие черты личности, как умение терпеть голод и холод, наблюдательность, способность самоорганизоваться и принимать самостоятельные решения были воспитаны всем предшествовавшим жизненным укладом, а также, очевидно, детской мальчишеской игровой культурой, включавшей элементы военной действительности. Полученные навыки ориентации на местности, поиски следов «казаков-разбойников», осады и взятия снежных городков, умения выстроить стратегию выживания («формулу выживания»»), как показывает рукопись Ф.Е.Токаренко, помогали бойцам в условиях реальных боевых действий.