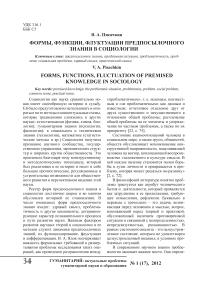Формы, функции, флуктуации предпосылочного знания в социологии
Автор: Писачкин Владимир Александрович
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (17), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены проблемная ситуация, проблематичность, проблема, здравый смысл и практический смысл в контексте предпосылочного знания в методологии социологического исследования.
Предпосылочное знание, проблемная ситуация, проблематичность, проблема, социальная проблема, здравый смысл, практический смысл
Короткий адрес: https://sciup.org/14720666
IDR: 14720666 | УДК: 316.1
Текст научной статьи Формы, функции, флуктуации предпосылочного знания в социологии
Социология как наука сравнительно новая имеет своеобразную историю и судьбу. Ей было предуготовлено использовать и опираться на те методы и концептуальные схемы, которые традиционно сложились в других науках: естествознании (физика, химия, биология); гуманитарном знании (психология, филология); в социальном и техническом знании (технологии), математике (статистические методы и др.) Социология получила признание научного сообщества, государственного управления, экономических структур и широких кругов общественности. Это произошло благодаря тому конструктивному и методологическому потенциалу, который был реализован в ее истории и несет в себе большие прогностические, регуляционные и устроительные возможности для общественного развития в перспективном видении этой науки.
Реестр форм предпосылочного знания в социологии достаточно широк и во многом обусловлен историей ее становления. В число очевидных форм предпосылочного знания входят: здравый смысл, проблематичность и другие компоненты, детерминирующие характер познавательного процесса и пути развития науки. Важным фактором развития научных теорий в социологии и ее методов служит динамика предпосылочных знаний, их функционирование, флуктуация и дифференциация. В. А. Ядов подчеркивает важность формальных требований в развертывании проблемы исследования таких операций, как проведение разграничения между
«проблематичным», т. е. искомым, неизвестным и «не проблематичным» как данным и известным; отчетливое отделение друг от друга существенного и несущественного в отношении общей проблемы; расчленение общей проблемы на ее элементы и упорядочение по частным проблемам, а также по их приоритету [22, с. 75].
Состояние взаимоотношений человека в социальном мире, а также групп, общностей, обществ обусловливает возникновение конструктивной напряженности, нацеливающей человека на вектор, воплощающий воспроизводство «заложенного в культуре смысла. В ней каждое явление становится полем борьбы в душе личности и превращается в проблему, которая может решаться по-разному» [2, с. 72].
В философской литературе понятие проблемы трактуется как атрибут человеческого бытия и деятельности, который проявляется как затруднение в ее продолжении, требующее осмысления, рефлексии. Буквально в переводе с греческого – это задача, возникающая перед человеком и мыслью, вопрос, возникающий перед теорией и практикой, обусловленный наличием противоречивой ситуации и связанный с неопределенностью, непредсказуемостью, рискованностью. В рамках системного анализа – это целеустремленное состояние, которым не удовлетворен целеустремленный индивид, в условиях проблемных ситуаций.
В современном научном знании пробле-мология занимает важное место. Она опреде- ляет научную проблему как систему знания, отображающую проблемную ситуацию, и ее социокультурный фон. Структура научной проблемы включает следующие элементы: а) предпосылочное знание всех уровней (специально-научное, методологическое, неявное); б) центральный вопрос научной проблемы; в) императив – требование разрешить вопрос; г) предварительный образ искомого решения [18, с. 555]. Социальная проблема – это форма существования и выражения противоречия между уже назревшей необходимостью определенных общественных действий и недостаточными еще условиями ее реализации. Формулировка проблемы влечет за собой выбор конкретного объекта исследования.
Место здравого смысла в социологии воспринимается неоднозначно. Мир здравого смысла, по определению В. С. Барулина, – это важный момент духовности повседневности, практически бытовое сознание, руководствующееся определенными практическими интересами, практически ориентированными ценностями [3, с. 315]. На повседневном уровне наши действия подчиняются элементарным наборам правил поведения и моральных принципов, обеспечивающих механизм социального приспособления. Основным фактором этого приспособления является смысл.
Так, в одном из вузов региона активный и инициативный профессор начал штурм ректората с очередной инициативой. Несколько проректорских бастионов он преодолел, как ему показалось, успешно. Но в советское время еще необходимо было преодолеть и секретаря партийного комитета, которого о предстоящем визите новатора проректоры информировали с просьбой инициативу «зарубить». Партийный руководитель принял и вежливо выслушал инициатора. Задумался и произнес: «В вашей инициативе я не вижу здравого смысла». Последовали пересказ аргументов и повторное резюме: «Не вижу смысла». Новатор вежливо откланялся и, углубившись в сомнениях по своей акции, покинул чиновника, которым был применен особый, изощренный прием – бюрократический по сути, но очень эффективный и убедительный. В чем сила этого аргумента?
Дело в том, что апелляция к здравому смыслу обладает некой нудительной силой.
Здравый смысл действует как на психологическом, так и на идеологическом уровне обыденного сознания. Для рассмотрения этой силы обратимся к экскурсу в область общих определений, что позволяет выявить некую «точку» изначального строя мысли. В академических словарных дифинициях, как правило, отмечаются английские и немецкие трактовки здравого смысла. В буквальном переводе, например, с английского – common sense или немецкого – gesunder Menschenverstand это понятие обозначает совокупность взглядов людей на окружающую действительность и на самих себя, используемых в повседневной практической деятельности.
Философы обращаются к трактовке смысла в предельно широком плане, они рассматривают его как форму познания сущности, «которая превосходит любой эмпирический анализ причин» [20, с. 41]. М. К. Мамардашвили в одной из лекций «Психологической топологии пути» пишет о том, что авторами жизни – особенно там, где речь идет о конституции субъекта в качестве социального существа, т. е. существа, живущего с другими людьми, существа, которое никогда не может сказать, что оно единственно, само, единолично является автором своей жизни. Авторами его жизни являются также и другие люди. «Не весь человек есть в человеке. Человек не дан целиком им самим – некоторые его части уходят куда-то, в какие-то пространства, в скрытые измерения. И такого рода душевный опыт показывает нам, что отрыв от дела или от замысла в сократической точке необходимо диктуется еще и тем, что в этом устройстве мира, есть следующий закон. Закон, что в мире нет – французы сказали бы 1'avene-ment – становления смысла. Нет нашей возможности переносить на будущую прогрессию сложение смысла, который post factum санкционировал бы или освящал бы наши действия сейчас, здесь, в этой точке» [16, с. 418].
Здравый смысл – это то, что всем известно и всеми подразумевается. Он не поднимается до уровня научного и философского осмысления действительности, он противопоставлен оторванным от жизни искусственным построениям. Верная, по сути, точка зрения здравого смысла, как правило, ограничивается поверхностным взглядом на суть явлений, глубоко не проникающим в их смысл. Из философской трактовки этого понятия исходит шотландская школа «здравого смысла» представители которой считают, что человеческий дух имеет неискоренимые врожденные принципы здравого смысла, особенно такие, как вера в Бога и окружающий мир [14, с. 164]. Согласно прагматизму здравый смысл равнозначен той пользе и выгоде, которые человек получает в определенной ситуации. Философ-марксист А. Грамши подчеркивает ценность того, что принято называть «здравым смыслом» или обыденным сознанием. В нем имеется «известная доза “экспериментализма” и непосредственного, пусть даже эмпирического и ограниченного, наблюдения действительности» [9, с. 48–49].
Таким образом, проблема осмысления и использования инструментального и категориального статуса «здравого смысла» в истории философии и социальных и гуманитарных наук имеет довольно сложный опыт в рамках исторических, культурных и семантических практик. В этом плане социология как наука с большими возможностями и богатейшей предысторией оказывается в условиях «специфического» применения и отношения данного инструмента познания в интерпретации жизненных явлений, строительства собственного когнитивного аппарата, методов опросного исследования и анализа как количественного, так и качественного характера. Если психологи выявляют преимущественно индивидуальнонеповторимую информацию о человеке, то социологи получают социально типологическую картину мира.
М. К. Мамардашвили рассматривает феномен сознания в рамках гносеологии, социальной философии, методологии психологии, на материале психоанализа и материале искусств в условиях антропологической катастрофы. Он интерпретирует творчество М. Пруста в контексте опыта рефлексии над «самим собой», а личностное понимание способности «самонастроиться на высшее», называемое человеческим достоинством, базирует на разумных и спонтанных источниках. «Состояния» выражения чувств автор соотносит с их «материальными эквивалентами». Поэтому социальные примеры в его психологической топологии выстроены на обычном, предметном, обыденном языке.
Позиция М. К. Мамардашвили во многом созвучна с идеями известного паихотерапев-та и философа В. Франкла, который считает специфически человеческим проявлением не только умение ставить вопрос о смысле жизни, но и ставить под вопрос существование этого смысла. «Смысл нельзя дать, его нужно найти. Смысл должен быть найден, но не может быть создан. Создать можно либо субъективный смысл, простое ощущение смысла, либо бессмыслицу» [19, с. 36]. Мы живем в век распространяющегося все шире чувства смыслоутраты. В век, когда десять заповедей, по-видимому, уже потеряли для многих свою силу, человек должен быть приготовлен к тому, чтобы воспринять множество заповедей, заключенных в множестве ситуаций, с которыми его сталкивает жизнь. Тогда не только сама эта жизнь будет казаться ему осмысленной (а осмысленной – значит заполненной делами), но и сам он приобретет иммунитет против конформизма и тоталитаризма – этих двух следствий экзистенциального вакуума.
В такой век воспитание должно быть направлено на то, чтобы не только передавать знания, но и оттачивать совесть так, чтобы человеку хватило чуткости расслышать требование, содержащееся в каждой отдельной ситуации. Только бодрствующая совесть, справедливо считает Франкл, дает человеку способность сопротивляться, не поддаваться конформизму и не склоняться перед тоталитаризмом [19, с. 39].
С позиции социологии смыслозначи-мость и здравомыслие лежат в основе понимания между людьми. Российские социологи В. И. Добреньков и А. И. Кравченко рассматривают здравый смысл в качестве не эмоциональной, а рациональной, рассудочной формы коллективного сознания. В их понятии это «совокупность преимущественно правильных суждений о практической жизни людей, состоящих из некоторых норм и принципов, регулирующих наше поведение, помогающих приспособиться к действительности» [10, с. 4].
Отчасти эта мысль получила развитие в творчестве американского философа и социолога, предшественника социально- го интеракционизма Дж. Мида. В работе «От жеста к символу» он отмечает, что «Мы особенно интересуемся пониманием (intelligence) на человеческом уровне, т. е. приспособлением друг к другу действий различных человеческих индивидов в рамках человеческого социального процесса. Это приспособление происходит посредством коммуникации: посредством жестов на более низких уровнях человеческой эволюции и посредством значимых символов (жестов, обладающих смыслом и являющихся, следовательно, чем-то большим, нежели простые заместительные стимулы) на более высоких уровнях человеческой эволюции» [1, с. 220]. Другими словами, взаимоотношение между данным стимулом – как жестом – и последующими фазами социального действия, ранней (если не начальной) фазой которого он является, составляет пространство, в котором зарождается и существует смысл. Смысл, таким образом, не просто «идея» в ее традиционном понимании, а определенное развитие объективно существующего в качестве отношения между определенными фазами социального действия [1, с. 221].
Важнейший вклад в постижении идей понимающей социологии привнесен М. Вебером, реализовавшим научноисследовательскую программу рассмотрения социологии как науки о социальной реальности, где центральной проблемой становится смысловая соотнесенность поведения одного человека к поведению других людей в процессе их взаимодействия. Вебер раскрывает смысл «понимающей» социологии в контексте отношения к психологии, догматике права, общественно ориентированному действию, согласию, институту и союзу. Он отмечает, что у истоков понимания сущности «здравого смысла» в социологии лежат идеи «наиболее понятного» типа смысловой структуры действий, которые представляют собой действия, субъективно строго рационально ориентированных на средства, которые (субъективно) рассматриваются в качестве однозначно адекватных для достижения (субъективно) однозначно и ясно постигнутых целей.
Вебер исходит из того, что слово «смысл», во-первых имеет два значения. «Он может быть: а) смыслом, действительно субъективно предполагаемым действующим лицом в данной исторической ситуации, или приближенным, средним смыслом, субъективно предполагаемым действующими лицами в определенном числе ситуаций; б) теоретически конструированным чистым типом смысла, субъективно предполагаемым гипотетическим действующим лицом или действующими лицами в данной ситуации. Здесь вообще не идет речь о каком-либо объективно “правильном” или метафизически постигнутом “истинном” смысле. Этим эмпирические науки о действии – социология и история – отличаются от всех догматических наук – юриспруденции, логики, этики, – которые стремятся обнаружить в своих объектах “правильный”, “значимый” смысл» [5, с. 603].
В принципе смысл возникает и располагается в пространстве отношения между жестом данного человеческого организма и последующим поведением этого организма, возвещенным другому человеческому организму посредством этого жеста. Если этот жест возвещает, таким образом, другому организму последующее (или результирующее) поведение данного организма, то он обладает смыслом.
Позиция российского философа Л. А. Микешиной во многом основана на идеях понимающей социологии М. Вебера: о различных видах соглашения в базовых формах социального действия, в том числе действий в познании, где «смысловая ориентация на ожидание определенного поведения других», «субъективно осмысленного», заранее вероятностно исчисленного, на основе определенных смысловых связей и шансов других людей; о соотнесенных Вы-бером близких, но не тождественных понятий («общность», «языковая общность»; «значимое» согласие, «действия, основанные на согласии»; «договоренность» и др.). Эти понятия, в отличие от специфически социологических, например «сословная кон-венциональность», имеют общий характер и вполне применимы при рассмотрении познавательной деятельности как социальнокоммуникативной.
Л. А. Микешина рассматривает здравый смысл в качестве «особой формы предпосы-лочного знания». Она считает, что «консерва- тизм этого вида обыденного значения содержит не только негативные, но и позитивные для познания функции, поскольку для любого радикально нового знания существует допустимая мера “безумия”, превышение которой приводит к потере связей с реальностью. Здравый смысл предстает как неформальный критерий рациональности всякого познания, оценки, действия» [17, с. 330].
Согласно М. Веберу «одинаковое» по смысловой соотнесенности поведение уже при чисто количественном различии в «быстроте реакции» участников в своей конечной стадии часто проходит совершенно различным способом. Подобные различия, а тем более качественные моменты, ведут к тому, что «одинаковые» вначале по «смысловой» соотнесенности мотивационные сцепления в результате нередко перемещаются на пути как гетерогенные и по смысловому значению.
Социология принимает во внимание, конечно, не только наличие таких «выдвинутых» мотивов поведения, как «замена удовлетворения» инстинктов и т. п., но и то, что просто «непонятные» качественные компоненты мотивационного процесса в значительной степени определяют также его смысловую соотнесенность и характер его воздействия. Здравый смысл политического ядра общества является стержнем общественного сознания, пропитанного идеологией, подчиняющей себе жизнь партийного активиста, сильно отличается от здравого смысла обычных людей, «обывателей», мыслящих в рамках обыденного сознания.
Для социолога нет четких границ между: 1) более или менее приближенно достигнутым типом правильности; 2) типом (субъективно), целерационально ориентированным; 3) более или менее осознанным или замеченным и более или менее однозначно целерационально ориентированным поведением; 4) поведением нецелерациональным, но понятным по смысловым связям; 5) поведением, мотивированным более или менее понятной смысловой связью, в большей или меньшей степени прерываемой непонятными, отчасти также определяющими ее моментами; 6) наконец совершенно непонятными психическими и физическими данностями «в» человеке и «связанными» с ним. Социолог считает само собой разумеющимся основываться и на том, что он предполагает возможным ожидать и от других субъективно осмысленного поведения и тем самым с различной степенью вероятности заранее исчислить, основываясь на определенных смысловых связях, и шансы других людей. Это ожидание может быть субъективно основанным прежде всего на том, что действующий индивид «приходит к соглашению» с другими лицами, «достигает договоренности» с ними, «соблюдения» которой (в соответствии с его собственным осмыслением такой договоренности) он, как ему представляется, имеет достаточное основание ждать от них. Уже одно это обстоятельство придает общностно ориентированным действиям специфическую и очень существенную качественную особенность, поскольку тем самым значительно расширяется сфера ожиданий, на которую индивид может, как он полагает, целерационально ориентировать свои действия. Правда, возможный (субъективно предполагаемый) смысл общностно ориентированных действий не исчерпывается ориентацией индивида на «ожидание» определенных действий третьих лиц. В пограничном случае такую ориентацию можно просто не принимать во внимание, и действия, соотнесенные по смыслу с действиями третьих лиц, могут быть ориентированы на субъективно предполагаемую «ценность» содержания собственных действий как таковых (на «долг» или что бы то ни было); в этом случае действия будут ориентированы не на ожидание, а на ценность.
Вопросам специального рассмотрения места «здравого смысла» в социологии принадлежит позиция Э. Гидденса. Он отмечает, что «социология дает нам возможность получить знания о нас самих, об обществах, в которых мы живем, и о других обществах, отделенных от нас в пространстве и во времени. Социологические исследования, с одной стороны, разрушают, а с другой, дополняют наши основанные на здравом смысле представления о нас самих и о других людях» [8, с. 28]. Гидденс приводит список утверждений, в которых социологи должны помочь понять людям в них разобраться. При этом социолог должен быть готов задать вопрос о любом из наших убеждений (неважно, на- сколько оберегаемом нами). «Действуя подобным образом, социология способствует пониманию того, что есть “здравый смысл”». Многое из того, что мы относим к здравому смыслу, т. е. к тому, что известно всем, – например, то, что число разводов увеличилось в период после Второй мировой войны, – основано на работах социологов и других ученых-обществоведов. Для того чтобы из года в год представлять материалы по вопросам брака и развода, необходимо проводить огромное количество регулярных исследований. То же самое относится и ко множеству остальных областей нашего «основывающегося на здравом смысле» знания [8, с. 30]. В этом ключе представлена концепция «cпирали умолчания» (Э. Ноэль Нойман), решены исследовательские задачи изучения военной адаптации американских военнослужащих периода Второй мировой войны, о приспособленности к военным действиям выходцев из сельской местности и городов и др.
Разумеется, социологические исследования не всегда противоречат здравому смыслу. Здравый смысл нередко служит источником понимания в процессе изучения социального поведения. Т. Лоусони и Д. Гэррод подчеркивают мысль о том, что в социологии здравый смысл контрастирует с социологическим знанием, которое порой противоречит общему пониманию и предлагает свидетельства того, что вещи не всегда таковы, какими их принято считать. Основанные на здравом смысле объяснения могут, таким образом, не совпадать с социологическими объяснениями, притом последние создают более надежную основу для знания [14, с. 128]. В этом плане актуальна мысль американского социолога Клиффорда Гирца, который отмечает, что «сами принципы, которыми мы руководствуемся при определении “здравости” того или поступка, являются порождениями не объективных требований логики, а культуры, которая существует в данном месте и в данное время» [Цит. по: 12, с. 166–172]. Так, на формирование понимания здравого смысла в рамках западной культуры оказало огромное влияние развитие науки. Безусловно, абсолютно прав российский мыслитель В. С. Библер, написавший философское введение в ХХI в. под названием «От науко- учения к логике культуры». В этом контексте уместно обращение к идеям М. М. Бахтина, М. П. Петрова, А. С. Ахиезера и других российских мыслителей.
Российский философ А. С. Ахиезер считает, что «дуальная оппозиция является исходным пунктом своего собственного преодоления, преодоления опасного для субъекта расчленения смысла, культурного опыта. Она сигнализирует субъекту о необходимости ее самоликвидации (например, выявляет, что его знание об обществе неадекватно), о необходимости дальнейшего познания…» [2, с. 72]. Анализ механизма культуры начинается с выделения дуальных оппозиций и анализа отношений между ними. Осмысление происходит как соотнесение осмысляемого через полюса дуальной оппозиции. Смысл, следовательно, формируется как бы «между смыслами» (по М. М. Бахтину), содержащимися в полюсах оппозиции.
В дуальной логике реализуется не только культурологический, но и психологический механизм, поскольку конечной целью всех душевных стремлений являются уравновешенность, безопасность, приспособление, целостность, что и заставляет человека постоянно уходить от двусмысленности дуальной оппозиции, преодолевать ее в поисках синтеза.
-
Н. Луман определяет коммуникационное производство смысла и его статус. В его видении «системы, использующие смысл, уже благодаря своему медиуму являются системами, которые могут описывать себя самих и свой внешний мир лишь в форме смысла, а это означает: они могут осуществлять наблюдения и описания посредством “повторного ввода” формы в форму». Не существует психических и социальных систем, которые не могли бы различать между собой и другим в медиуме смысла (какие бы виды свободы ни могли потом актуализироваться в вопросах каузального приписывания). Системы, оперирующие в медиуме смысла, могут и даже должны различать самореферен-цию и инореференцию; и они осуществляют это таким образом, в котором актуализация самореференции всегда сопровождается и инореференцией, и одновременно в ходе актуализации инореференции непременно
задается и самореференция как соответствующая ей другая сторона различения. Поэтому всякое формообразование в медиуме смысла должно осуществляться относительно системы, и неважно, акцентуируется ли в данный момент самореференция или же инореференция. Лишь данное различение делает возможными процессы, которые обычно называют обучением, развитием системы или эволюционным выстраиванием комплексности. Это различие позволяет исходить из двух конститутивно-смысловых, но чрезвычайно различных по операциям психических и социальных систем, которые воспроизводят себя через сознание или через коммуникацию, для того чтобы порождать те или иные исходные основания для различения самореференции и инореференции, но, несмотря на это, всегда соотносятся друг с другом благодаря предпосланной или актуализированной инореференции [15, с. 49].
Социолог Ж. Эллюль, первооткрыватель термина «социологическая пропаганда», прямо обосновывает роль «индустрии» здравого смысла как средства «спонтанного утверждения образа жизни». В качестве такового она должна создавать благоприятный психологический климат для последующей целенаправленной идеологической обработки, поскольку «никакая прямая пропаганда не может быть эффективной без пропропаганды... Почва должна быть социологически подготовлена, прежде чем можно будет приступать к прямой подсказке. Социологическая пропаганда может быть уподоблена вспахиванию, прямая пропаганда – засеиванию...» [Цит. по: 7, с. 138].
Раскрывая особенности социальной реальности, с которой приходится иметь дело таким наукам, как социология, А. Шюц был буквально поражен тем, до чего она «за-вирусована» здравым смыслом: «Наблюдаемое социальным ученым поле, научная реальность, имеет специфические смысл и структуру соответствия для живущих, действующих и мыслящих в ней человеческих существ. Путем серии построений здравого смысла они предварительно отобрали и проинтерпретировали этот мир, который ими воспринимается как реальность повседневной жизни. И именно эти мысленные объекты определяют их поведение, мотивируя его.
Мысленные объекты, сконструированные обществоведом для того, чтобы понять социальную реальность, должны базироваться на мысленных объектах, сконструированных здравой мыслью людей, живущих своей обыденной жизнью в своем социальном мире. Таким образом, конструкции социальных наук являются, так сказать, конструкциями второго порядка, конструкциями конструкций, созданных актерами на социальной сцене» [Цит. по: 11, с. 15]. Мысль, выраженная А. Шюцем, очень близка к трактовке здравого смысла в качестве «предпосылочного знания», о котором пишут философы науки.
Радикально сомнение и разрыв со здравым смыслом принадлежит французскому социологу П. Бурдье. Особое место в ряду социологического осмысления регуляции социального поведения, социальных практик и социологической теории занимает его работа «Практический смысл», известная под названием «манифест теории практики». В широком значении практика, по мнению автора, – это все то, что социальный агент делает сам и с чем он встречается в социальном мире, представляет собой скорее спонтанные, чем рационально избирательные действия. Практика сталкивается с сознанием, но остается внешней ему, а сознание гетерогенно ансамблю практик, однако необходимо как выражение «предельного случая». В роли экстремально «внутренней» и «идеальной» сознание демонстрирует некоторые сущностные характеристики «внешней» социальной практики. Однако, будучи как бы внутренней составной частью совокупности практик, сознание отрицает его универсальный принцип – пространственно-временную локализацию в социальном мире, сингулярность и многое другое.
П. Бурдье характеризует всякую социальную практику в отношении с другими практиками и рассматривает ее как процесс «исторического становления». Историзм в изучении становления социума, его структур – один из основанных принципов его методологии. Временная структура практики действует, по мнению Бурдье, как экран, препятствующий тотализации, например, интервал между даром и ответным даром в любом обществе служит орудием психоаналитического отрицания, обеспечивает сосуществование в индивидуальном опыте и в общественном суждении совершенно противоположных друг другу субъективного и объективного содержания. Парадоксально, но обнаруживаемый разрыв между «внешней» практикой и «внутренним» сознанием есть конститутивный элемент совокупности социальных практик, фиксируемых социологией.
П. Бурдье стремится к объективации исследовательской позиции – отрицанию объективизма, который, по его мнению, представляет социальные отношения как независимую от индивидов реальность, а также и субъективизма как неспособного объяснить закономерности социального мира. Объективизм грешит необъективностью, когда в описании реальности опускает то представление о ней, вопреки которому ему и пришлось конструировать свое «объективное» представление и которое, будучи единодушно поддержано группой, являет собой самую что ни на есть бесспорную форму объективной реальности. Символическая алхимия служит для выработки реальности, отрицающей реальность, на это нацелено все коллективное сознание, т. е. коллективно выработанное, поддерживаемое и сохраняемое неузнавание «объективной» истины, и парадигмой всех операций, благодаря которым это происходит.
Официальная истина, вырабатываемая в ходе коллективного труда эвфемизации – элементарной формы объективации, ведущей к юридическому оформлению приемлемых практик, – не просто позволяет группе «мысленно спасать свою честь»; она обладает также и реальной действенностью, потому что будь она даже отрицаема всеми практиками (вроде грамматического правила, состоящего сплошь из исключений), она все равно остается правилом практик, стремящихся быть приемлемыми. Так, мораль чести давит на каждого члена группы весом всех остальных членов, и «рас-колдование», ведущее к постепенному разоблачению вытесненных значений и функций, может воспоследовать только от крушения социальных предпосылок перекрестной цензуры (которой каждый отдельный человек может тяготиться, не переставая при этом отягощать ею других) и от вытекающего из него кризиса коллективного неузнаваниия.
Бурдье показывает, что социальные практики вне индивида являются объективированными. Но продукты практик, находящиеся внутри индивида, являются инкорпорированными и предстают как диспозиции, предрасположенности к восприятию событий и определенным образцам действий. Любая практика «есть различие: когда агент что-либо совершает, он отличает себя от предмета своей практики; то, что и как он производит, отличает его предмет деятельности от других; его способ и манера действия отличается от характеристик других агентов и т. д. Только при этом условии практика может быть выделена из хаоса «общественной жизни» [4, с. 210]. Практика не может быть сведена ни к объективному целенаправленному преобразованию социального мира, ни к субъективному опыту сознания, а является действительным осуществлением объективных и субъективных социальных структур. Не бывает простых или элементарных практик. В практике всегда есть составляющие ее моменты, т. е. переходящие друг в друга компоненты; это множество элементов, но не всегда они могут быть концептуализированы исследователем. В одной практике могут наличествовать моменты других, тех, что были произведены в иных условиях и т. д. У каждой эмпирической практики «неидеальные» формы, задаваемые ее моментами, поэтому сущность ее кроется в различении. Социальные структуры являются объективированными продуктами практик, располагаясь вне индивида, они существуют в неодинаковом распределении материальных и символических благ.
В качестве механизма, порождающего практики, Бурдье использует понятие габитуса, принципиальным моментом исследования которого является то, что он анализируется как целостное явление, не требующее выделения самостоятельных смысловых единиц. Габитус как набор неосознаваемых схем восприятия практик и их производства позволяет объяснить их спонтанность и импровизированность без обращения к идее рефлексирующего свободного субъекта, а это позволяет отказаться от использования здравого смысла и других функциональных сегментов (этнос и др.) и использовать понятия: первичный и вторичный габитус, габитус классовый и групповой.
Отношения между субъективистской моделью и габитусом, между теоретическим планом и схемой практического чувства, дублируемой практического правилами – неполными и несовершенными попытками эксплицировать его принципы, что осложнено и третьим элементом, официальными нормами и теми теориями, которые усиливают, повторяя его на уровне дискурса, вытеснение «объективной» (т. е. объективистской) истины, заложенное в самой структуре практики и в этом смысле самовключающееся в целостную истину практики. Заучивание никогда не бывает настолько совершенным, чтобы можно было обойтись без всякой экспликации, даже если объективация порождающих схем в форме грамматики практик, писаного кодекса поступков остается минимальной. Официальные представления, к числу которых следует относить, кроме правил обычая, также поэзию, пословицы и поговорки и другие виды объективации схем восприятия и поступка в форме слов, вещей или практик, моделей поведения, – диалектически соотносящимися с теми диспозициями, которые в них выражаются и формированию и закреплению которых они способствуют.
П. Бурдье отмечает также, что склонностью габитусов является признание любых выражений, в которых они опознают себя. Их склонностью является спонтанная выработка тех образцовых продуктов и наиболее правильных габитусов, которые отбираются и сохраняются на протяжении ряда поколений. Официальным представлениям такого рода свойственно устанавливать принципы практического отношения к природному и социальному миру в форме слов, предметов, практик и особенно в форме коллективнопубличных манифестаций, таких как массовые ритуалы, карнавалы, торжественные процессии, шествия, митинги, демонстрации, где социальная группа является себе самой, во всем своем объеме и структуре. Такие манифестации являются также представлениями, иначе говоря, спектаклями, где играет и выходит на сцену вся группа, конституируясь как зритель зримого представления.
Еще одним важным элементом, по Бурдье, является официализация как процесс, в ходе которого группа постигает и скрывает от себя свою суть, связывает себя с публичным исповедованием веры, узаконивающим и внушающим произносимое, молчаливо очерчивающим пределы мыслимого и немыслимого и тем самым способствующим поддержанию социального порядка, которым и обеспечивается его власть. Отсюда следует, что в числе наиболее оспариваемых предметов этой борьбы – всевозможные официальные представления, в частности те, которые объективированы в языке, в форме пословиц, поговорок, гномической поэзии. «Овладеть “словами племени” – значит овладеть способностью воздействовать на группу, присвоив себе ту власть, которую группа осуществляет над собой посредством своего официального языка; действительно, принцип магической действенности этого перформативного языка, сообщающего существование тому, что в нем высказывается, магически учреждающего говоримое в его основополагающих утверждениях, заключается не в самом языке, как считают некоторые, а в группе, которая его санкционирует и сама им санкционирована, которая признает его и сама узнает себя в нем» [4, с. 217].
В соответствии с концепцией П. Бурдье любое социологическое исследование должно придерживаться нескольких основополагающих принципов, среди которых, во-первых, историзм и изучение становления объекта исследования; во-вторых, объективация исследовательской позиции и инструментария; в-третьих, радикальное сомнение и разрыв со здравым смыслом и, в-четвертых, борьба за сохранение или изменение существующего порядка вещей. В силу выдвинутых критериев и приемов теоретизирования Бурдье не только уходит от статусной позиции «здравого смысла» в социологии, но и подменяет его новыми для социологического исследования инструментами, каким прежде всего выступает «габитус», а также «символический капитал», «социальное пространство», «поля», «практики». Место практического смысла у Бурдье замещается понятием «практический смысл».
Здравый смысл, по оценке П. Штомпки, носит иной характер. По его мнению, это «распространенные в данной группе спонтанные, интуитивные суждения и представления. Они фиксируют разнообразный опыт, который члены данного общества получают в повседневной жизни. Они не являются ни упорядоченными, ни систематизированными, ни вытекающими логически одно из другого, более того, они часто содержат взаимоисключающие, противоречащие друг другу заключения. Они не выведены из какой-либо системы и не опираются на системную аргументацию. Часто они основываются на поспешном обобщении единичных фактов или на односторонней интерпретации событий. Но это не исключает того, что порой они весьма верно и точно отражают то или иное истинное представление об окружающем мире» [21, с. 311] В какой мере они являются истинными, в каких границах можно ими пользоваться, мы не можем точно сказать, поскольку не знаем метода их проверки. Поэтому их также трудно подвергнуть сомнению или опровергнуть. Они являются постоянным, прочным, обладающим силой инерции и догматичным элементом коллективного фольклора, обыденного сознания.
Условия ограничения здравого смысла в отличие от научного российский социолог В. Ф. Анурин видит в том, что он находится в опасной близости к мифологии и идеологии, приобретается каждым человеком в одиночку, не поддается систематической эмпирической проверке (не верифицируется и не фальсифицируется). Это знание ограниченно и поверхностно и содержит такие логические связи и утверждения, которые нельзя явным образом эксплицировать и подвергнуть научному доказательству. Оно обладает нормативным характером, имеет оценочные суждения, личные предубеждения и элемент долженствования, не является объясняющим, а его носитель не в состоянии толково объяснить всем окружающим, почему это происходит именно так, а не иначе и при каких условиях события могли бы двигаться в ином направлении. Здравый смысл не является передаваемым в такой же степени, как научное знание. На языке методологии научных исследований знание здравого смысла не идет дальше формулировки коррелятивных или направленных гипотез, когда научное знание осуществляет формулировку и проверку каузальных гипотез [10, с. 7]. Проведенный В. Ф. Ануриным анализ позволяет определить презумпции, определяющие статус здравого смысла в социологическом исследовании, его предпосылочный характер.
Таким образом, в социологии сложились две позиции по отношению к здравому смыслу, его принятия и его неприятия в качестве базового понятия исследований, аналитического инструмента. Позиция, согласно которой здравый смысл рассматривается как рассудочная форма коллективного сознания в соотнесенности с понятиями «общественное мнение» и «обыденное сознание», представлена наиболее убедительно. Здравый смысл неустраним от вторжения в теоретический и прикладной мир социологии в качестве предпосылочного фактора устроения научного знания, научной теории. Он представляет собой ощущение жизненного опыта не только отдельного человека, но и определенных социальных групп.
Список литературы Формы, функции, флуктуации предпосылочного знания в социологии
- Американская социологическая мысль: Тексты/Под ред. В. И. Добренькова. -М.: Издание Международного Университета Бизнеса и Управления, 1996. -С. 220-221.
- Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). От прошлого к будущему/А. С. Ахиезер. -М.: Новый хронограф, 2008. -938 с.
- Барулин В. С. Основы социально-философской антропологии/В. С. Барулин. -М.: ИКЦ «АКАДЕМКНИГА», 2002. -С. 315.
- Бурдье П. Практический смысл/П. Бурдье. -СПб.: Алетейя, 2001. -562 с.
- Вебер М. Избранные произведения/М. Вебер. -М.: Прогресс, 1990. -808 с.
- Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление/В. И. Вернадский. -М.: Наука, 1991.
- Вечер-Щербович А. Ф. Похождения здравого смысла/А. Ф. Вечер-Щербович. -М.: Мол.Гвардия, 1981. -191 с.
- Гидденс Э. Социология/Э. Гидденс. -М.: Эдиториал УРСС, 1999. -703 с.
- Грамши А. Тюремные тетради/А. Грамши. -В 3 ч. -М.: Политиздат, 1991. -Ч.1. -С. 48-49.
- Добреньков В. И. Теория и методология//В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. Фундаментальная социология: в 15 т. -М.: ИНФРА-М, 2003. -Т. 1. -908 с.
- Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания. -М.: Политиздат, 1990. -464 с.
- Килькеев В. Н. Клиффорд Гирц о контроверзах постижения культуры и человека/В. Н. Килькеев//Научные ведомости БелГУ. Серия «Философия. Социология. Право». Вып. 7. -Белгород: БелГУ, 2009. -2 (57). -С. 155-172.
- Краткая философская энциклопедия. -М.: Энциклопедия, 1994. -575 c.
- Лоусон Т. Социология. А-Я: Словарь справочник/Т. Лоусон, Д. Гэррод. Пер. с англ. К. С. Ткаченко. -М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. -603 с.
- Луман Н. Общество как социальная система/Н. Луман. -М.: Изд-во «Логос», 2004. -232 с.
- Мамардашвили М. К. Психологическая топология пути М. К. Мамардашвили. -СПб.: Журнал «Нева», 1997. -572 с.
- Микешина Л. А. Философия науки: Современная эпистемология. Научное знание в динамике культуры. Методология научного исследования: учеб. пособие/Л. А.Микешина. -М.: Прогресс-традиция: МПСИ: Флинта, 2005. -464 с.
- Прытков П. В. Проблема/П. В. Прытков//Современный философский словарь/Под общ. ред. В. Е. Керимова. -М.: Академический Проект, 2004. -С. 553-556.
- Франкл В. Человек в поисках смысла/В. Франкл. -М.: Прогресс, 1990. -368 с.
- Хёсле В. Философия и экология/В. Хёсле. -М.: Институт философии РАН; Издат. фирма АО «Ками», 1994. -192 с.
- Штомпка П. Социология. Анализ современного общества/П. Штомпка. -М.: Логос, 2005. -664 с.
- Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности/В. А. Ядов. -М.: «Добросвет», 2003. -С. 75.