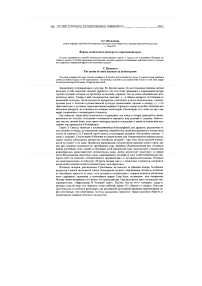Формы комического дискурса в современной прозе
Автор: Шеметова Т.Г.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 7, 2007 года.
Бесплатный доступ
В статье сравниваются способы комического повествования в прозе Э. Севелы и Н. Горлановой. Показана способность юмора и эстетики примитива синтезировать несколько ракурсов изображения действительности, преодолевать пафосное утверждение красоты возвышенных идеалов.
Короткий адрес: https://sciup.org/148178221
IDR: 148178221
Текст научной статьи Формы комического дискурса в современной прозе
The article compares the types of comic narration in E.Sevela’s and N.Gorlanova’s prose. It exposes humor potential to synthesize different aspects of life representation. The aesthetics of primitive arts enables both writers to swift from straightforward proclaiming of the beauty of high spiritual ideals.
Характеризуя средневековую культуру, M. Бахтин писал, что все подлинно великое должно включать в себя смеховой элемент. Думается, что этот тезис применим к современной литературной ситуации, которая, не претендуя на величие, отражает тем не менее значительную историческую эпоху. Говоря о ней, исследователь замечает: «...в общем процессе эстетизации современной культуры, где актуальность прекрасного выступает в своем неявном виде, главенствующая роль в эстетико-художественной культуре принадлежит иронии и юмору» (I, с.35). Действительно, в условиях переосмысления недавнего прошлого юмор способен синтезировать несколько ракурсов, не становясь на позицию метатеории. Рассмотрим этот тезис на двух примерах современного литературного процесса.
Как известно, такие виды комического содержания, как юмор и сатира, разводятся преимущественно по способу отношения осмеиваемого предмета или явления к социуму. Вместе с тем, как мы увидим ниже, смех имеет непосредственное отношение к таким эстетическим категориям, как прекрасное и безобразное.
Герои Э. Севелы, писателя с космополитической биографией, как правило, рассказчики таких историй, которые, по выражению критика, первобытные люди рассказывали у костра после охоты на мамонта (2). Главный герой одного из последних романов «Остановите самолет-я слезу!» Аркадий Соломонович Рубинчик во время полета над Атлантическим океаном рассказывает своему собеседнику множество житейских историй - при этом маска веселой контактности не сходит с его лица. Профессия парикмахера, которой автор наделяет своего героя, дает ему две основные возможности: преображать мир, придавая облагороженный вид головам не всегда достойных этого людей, и обогащать свой жизненный опыт знакомством с множеством разнообразных представителей человеческого рода. Автор использует известную со времен эпохи Возрождения сюжетную схему «нанизывания» историй на одну повествовательную нить. Герой летит на самолете «отечественного производства» «с исторической родины» (Израиль) на «доисторическую» (в Москву). Интрига связана еще и с личностью слушателя, который до конца повествования остается неизвестным, «мистером икс»
Поначалу истории, рассказанные Рубинчиком, не выходят за пределы юмора, безобидных анекдотов о жизни московской элиты, посещавшей модного парикмахера. Читатель испытывает чистейшую «радость от ума», хотя истории в соответствии с жанром анекдота рассказываются «дурацкие», например, о величайшем дураке Семе Каце, потрясшем всю театральную Москву своим незнанием того факта, что земля круглая. Сам рассказчик дает следующую авто-характристику: «Парикмахер. И большой идиот. Потому как то, что я натворил, сдуру сунувшись куда не надо, мог наделать только набитый дурак» (3). «Идиот» и «дурак», благодаря Достоевскому и особенно фольклору, для российской культурной традиции наименования скорее позитивные, чем негативные, поэтому рассказчик стремится таким способом обрести дополнительное доверие читателя-«слушателя».
Не менее анекдотична история связи советского иммигранта еврея Рубинчика с «арабской террористкой». История, иронически переосмысленная автором сначала в духе Монтекки и Капулетти, а затем счастливо разрешившаяся в виде «тысячи и одной ночи» с прекрасной «Шахерезадой». Как видим, арабо-израильский конфликт в ироническом переосмыслении предстает как явление глубоко неестественное, надуманное и необходимое лишь «кукловодам» из стран-сверхдержав. Финал этой истории имеет несколько иную стилистическую окраску. Назовем его, вслед за Б. Эйхенбаумом, апофеозом гротеска: проснувшись в американском отеле, герой видит в окне серый силуэт крейсера «Аврора». Полуфантастический образ страны победившего пролетариата, подобный Медному всаднику, который свел с ума пушкинского бедного Евгения, этот корабль-призрак заставляет испытать веселого и находчивого героя не самые лучшие минуты в своей жизни. Из плейбоя и «героя Израиля» он превращается в заикающегося Акакия Акакиевича, кролика перед лицом немилосердного удава.
Далее повествование возвращается в мир обычных представлений: героя испугал действительно исторический крейсер, но из американской истории, как две капли похожий на «Аврору». Этот западный двойник советского монстра окажется впоследствии образом-символом: вожделенный Запад с его свободами окажется гибельным для лучших представителей советской интеллигенции. Описания злоключений иммигрантов на Западе близки по характеру к фарсу, картинки же из советской жизни представляют собой одновременно смеховые и болевые корчи. И все же автор не позволяет себе кощунственного смеха: у него есть четкая граница, переступать которую нельзя. Вместе с тем Э. Севела своим повествованием неоднократно доказывает, что от великого до смешного - один шаг. Описывая поистине героическую борьбу двадцати четырех человек, захвативших Приемную Президиума Верховного Совета СССР, против государственной махины, писатель не проходит мимо анекдотической ситуации: маленький еврей, не в меру расхрабрившись, заявляет партийному боссу, что если ему немедленно не выдадут визу в Израиль, то он устроит на Красной площади «самосожжение» собственной жены. Смелость «маленького человека», безусловно, выступает в ореоле таких эстетических категорий, как «прекрасное», «героическое», внешняя же сторона поступка снижена «отстраненным» взглядом повествователя (из-за напряженности ситуации никто, кроме него, не заметил нелепости фразы).
Юмор в романе Севелы, таким образом, выступает своеобразной антитезой пафосу, как революционному, так и героическому. Изображая всеобщий беспорядок, как на «исторической», так и на «доисторической» родине, писатель выстраивает некий внутренний «порядок личности» рассказчика, который обладает безусловной созидательной силой. Эта сила проявляется и в трагикомическом, но все же выстроенном в форме повелительного наклонения заглавии: «Остановите самолет - я слезу!»
Несколько иной тип комического представлен в подборке рассказов Н. Горлановой «Вечер с прототипом» (4). Рассказчик - писательница по фамилии Горланова. Прием отстраняющего наименования повествователя собственным авторским именем известен и описан в специальной литературе давно. Имя и его носитель чаще всего не тождественны друг другу. Юмор в повествовании выступает как эстетический принцип плюралистичности жизненных концепций. В рассказе «Розыгрыш» героиня, сама того не зная, влияет на жизненный путь близких людей. Единственное выдуманное лицо в письме - признании в любви к однокурснику - таинственная Н.Н., но выдуманной оказывается совместная жизнь двоих людей, их счастливая судьба, последовавшая за фиктивным письмом. Порожденная выдумкой реальность оказывается калькой, бледным отражением и без того не слишком креативного вымысла. Рассказ представляет собой автопародию, в которой высмеивается неразрешимое противоречие между безусловным и обусловленным, выдуманным и совершившимся в действительности. Другой случай - три брака, «нагаданные», а на самом деле придуманные героиней, - по принципу дурной бесконечности воплощаются в жизни ее знакомых и в ее собственной. Ирония здесь используется как способ построения произведения, она почти неуловима, но вместе с тем позволяет увидеть, как различные картины мира сосуществуют в реальности.
Если в романе Э. Севелы смех - мужественный ответ на российский идиотизм и его жутчайшие последствия, то героиня Горлановой «не решается» смеяться, напротив, находит утешение в молитве. Но и молитва иронически переосмыслена: распрямляющаяся после нее душа сравнивается со сплюснутой бутылкой из-под минералки, из которой выходит воздух. Взаимо- отношения с высшим миром показаны в рассказе, давшем название подборке: «Вечер с прототипом». Героиня молится перед иконой и произносит следующие слова: «Господи, спаси меня!!! А ты, Пикассо, отойди от Христа!» (это я двигаю стекло в шкафу, где икона, - дело в том, что на стекле приклеена репродукция... она-то и наехала на плечо Спасителя)» (4, с.19). Стиль речи, способ построения текста напоминает мышление ребенка. С одной стороны, это инфантильное стремление все упростить, везде найти компромиссы: так, Пикассо может по-братски прислониться к плечу Иисуса - для интеллигента советского времени это одинаково запретные, а значит, сакральные фигуры. С другой стороны, в таком панибратском соединении нельзя не ощутить нарушения запрета, культурного табу. Акт молитвы десакрализуется, содержание рассказа «облегчается», повествователь снимает с себя ответственность за высоту поднятой темы. Вместе с тем смех в прозе Н.Горлановой не чужд эстетике примитива: некоторые ситуации и образы рассматриваемого рассказа заставляют вспомнить «антилогику» обэриутов. Вот писательница выбирает фамилию для героя: «Жлобич - нет, тут слышится «жлоб», а я своих героев люблю... Пустомельский — для сатиры, а я не сатирик... Плуталов — подумать надо... Мордочки» - Аля Эфрон, дочь Цветаевой, писала в одном письме кому-то: «Крепко тебя, мордочка, обнимаю». Но не все могут уловить тут ласковый оттенок. Вихорков - детская словно фамилия... Диалектов — заумно. Рынков - не то...» (4, с. 18). Упоминание в примитивистско-комическом контексте имени дочери Цветаевой встраивается в традицию хармсовской пушкинистики. Исследователь отмечает такие черты эстетики примитива: «фрагментарность, эпизодичность, неожиданность ракурсов, травестия отдельных элементов в новых, неожиданных их сочетаниях» (5, с.19).
Одной из форм, в которых воплощается эта эстетика в литературе, является житие. Один из рассказов подборки вполне укладывается в рамки этого жанра. Если два вышеописанных произведения строятся как монтаж рифмующихся, варьирующихся, дополняющих друг друга событий и лиц, не имеющий сюжетного завершения, то рассказ «Хромая судьба» отличается сюжетной и жанровой определенностью. Это житие человека с «другим» сознанием, наивного, неискушенного в практике житейских отношений. Учительница литературы Рая - женщина с «трудной судьбой». Еще во время войны, будучи пятилетним ребенком, во время обстрела она потеряла ногу; нянечка, не могшая выговорить слово «эвакуированная», называла ее «выковы-ренная». Мрачный сюжет о «хромой судьбе» Н. Горланова осваивает на удивление светло: это цепь смешных, лирических анекдотов, которые выстраиваются в систему фрагментов бытия, характеризующих цельную и удивительно ясную картину мира главной героини, в которой «все сбылось» и «хромая судьба» оказалась счастливой. Причем значительную роль в таком разрешении сюжета играет именно эстетика примитива, исходя из которой в рассказе ненавязчиво активизируются библейские мотивы: подругу Раи зовут Лия и она, будучи старой девой, удачно и счастливо выходит замуж за молодого скрипача Исаака. Рая, таким образом, ассоциируется с младшей дочерью ветхозаветного Лавана Рахилью, которая в старости родит мужу любимого сына. Описание позднего счастья и полной семейной идиллии Раи и ее бывшего ученика Роберта, с юных лет влюбленного в свою учительницу, построено с мягкой иронией; юмор в данном случае служит выявлению положительной сути героини - носительницы вечных истин. Ирония повествователя несколько смягчает прямолинейность нравственного императива, свойственного житию как жанру: «Верьте в любовь! Она может прийти к вам в любом возрасте!». Внутренняя серьезность, скрывающаяся за пародийностью стиля, сближает столь разных авторов, как Э. Севела и Н. Горланова.
Каждый из них выбирает свою стратегию поиска прекрасного в безобразном. Э. Севела использует маску рассказчика-парикмахера, которая, давая множество возможностей в сюжетном отношении (нанизывание на одну нить повествования многочисленных историй клиентов), несколько ограничивает писателя в формировании собственного «голоса». При всей своей внутренней цельности Аркаша Рубинчик - персонаж сатирический: он обнаруживает, говоря словами В. Тюпы, некую «неполноту присутствия «я» в миропорядке», т.е. такого несовпадения личности со своей ролью, при котором «внутренняя данность индивидуальной жизни оказывается уже внешней заданности и неспособна заполнить собою ту или иную ролевую границу» (6, с.472). Герой не выдерживает навязанной ему временем роли диссидента и тираноборца и возвращается на «доисторическую родину». Несколько иной принцип комического использует
Очур Т.Х. Образы-символы в прозе С. Сарыг-оола
-
Н. Горланова в подборке рассказов «Жизнь с прототипом»: снова цепь анекдотов, но из жизни одного человека. В данном случае эстетика примитива позволяет повествованию выйти за пределы пафосного утверждения красоты духовно-возвышенных идеалов, но все же комический дискурс не отменяет их, а, напротив, утверждает за счет перераспределения материала, смещения акцентов.
Список литературы Формы комического дискурса в современной прозе
- Сысоева Л. С. Утрата идеала прекрасного в эстетико-художественной культуре постмодернизма//Проблемы становления и развития национального самосознания: сб. ст. -Улан-Удэ, 2007.
- Шенкман Я. Другой глобус//http://www. alphabet. ru|
- Севела Э. Остановите самолет -я слезу!//http://www.palm.com.ua
- Горланова Н. Вечер с прототипом. Рассказы//Знамя. -200 1. -№ 5.
- Головчинер В.Е. Эстетика примитива как направление поисков в русской литературе XX века//Русская литература XX-XXI вв.: проблемы теории и методологии изучения. -М., 2004.
- Тюпа В. Художественность//Введение в литературоведение: основные понятия и термины. -М., 2000.