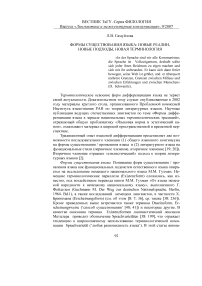Формы существования языка: новые реалии, новые подходы, новая терминология
Автор: Самуйлова Лидия Владимировна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы теории
Статья в выпуске: 9, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120486
IDR: 146120486
Текст статьи Формы существования языка: новые реалии, новые подходы, новая терминология
ФОРМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЯЗЫКА: НОВЫЕ РЕАЛИИ, НОВЫЕ ПОДХОДЫ, НОВАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
«In der Sprache sind wir alle Kommunisten; die Sprache ist Volkseigentum, deshalb sollte sich jeder ihren Reichtum zu eigen machen und sich mit ihr anfreunden. Er kann sich dann freier bewegen, seine Welt ist größer, und er überquert mehrere Grenzen, Grenzen zwischen Milieus und zwischen Erfahrungen und zwischen Menschen» (D. Schwanitz).
Терминологическое освоение форм дифференциации языка не теряет своей актуальности. Доказательством тому служат опубликованные в 2002 году материалы круглого стола, организованного Проблемной комиссией Института языкознания РАН по теории литературных языков. Научные публикации ведущих отечественных лингвистов по теме «Формы дифференциации языка в зеркале национальных терминологических традиций», отражающей общую проблематику «Языковая норма и эстетический канон», охватывают материал в широкой пространственной и временной перспективе.
Традиционный опыт языковой дифференциации представляет две возможности последовательного членения (1) общего языкового континуума на формы существования / проявления языка и (2) литературного языка на функциональные стили (первичное членение, вторичное членение [19; 20]). Вторичное членение отражает «стилистический» подход к теории литературных языков [2].
Формы существования языка. Понимание форм существования / проявления языка как функциональных подсистем естественного языка опирается на исследование немецкого национального языка М.М. Гухман. Немецкие терминологические параллели (Existenzform) сложились, как известно, под воздействием перевода книги М.М. Гухман «От языка немецкой народности к немецкому национальному языку», выполненного Г. Фойделем (Guchmann M. Der Weg zur deutschen Nationalsprache. Berlin, 1964. Bd.1), а также исследований немецких лингвистов, в частности Х. Бринкмана (Erscheinungsform) (см. об этом [8: 7; 36], ср. также [38: 236]). Кроме приведенных выше встречаются также термины Daseinsform, Er-scheinungsweise (‘способ существования’ [40; 41]) и некоторые другие. В качестве синонима термина Existenzformen лингвистический лексикон Метцлера приводит обозначение Sprachvarietäten [38: 199], что отражает тенденцию к широкозначному использованию терминологической номинации Sprachvarietät (‘любая разновидность языка’). В этой статье внима- ние уделяется полюсным формам существования языка – литературному (стандартному) языку и диалекту. Промежуточный уровень, занимаемый обиходно-разговорными речевыми формами, был подробно рассмотрен в статье [18].
Литературный язык / стандартный язык.
«СТАНДАРТ, -а, м. 1. Типовой вид, образец, к-рому должно удовлетворять что-н. по своим признакам, свойствам, качествам. Соответствие изделий стандарту. Государственный с.
-
2. перен . Нечто шаблонное, трафаретное, не заключающее в себе ничего оригинального, творческого. Действовать по стандарту».
(С.И. Ожегов. Словарь русского языка).
Литературный язык рассматривается в его соотношении со стандартной разновидностью немецкого языка. Общеизвестно, что западная лингвистическая традиция, хотя и знакома с терминологическим словосочетанием литературный язык (Literatursprache, literary language), прибегает к нему крайне редко. При этом у западных языковедов литературный язык чаще всего ассоциируется с «языком литературы», с которым у него, вне всякого сомнения, существует прочная историческая связь, ведь языковая нормализация происходила изначально в художественной сфере.
Наблюдаемое сужения понятия литературный язык идет не только по пути отождествления его с языком литературы, но и по другим направлениям (см. об этом подробно [7]). Актуальным представляется практическое отождествление литературного языка и языкового стандарта, представляющих собой, по сути, два исторических типа литературного языка (см. [7], а также [5: 62]). Я. Горецкий считает, что «собственно литературный язык как культивированная форма литературного языка» должен занимать «более высокое положение», чем «стандартный язык (стандартная форма национального языка) – основная форма национального языка, используемая в общественной коммуникации»). Пример отождествления находим на отечественной лингвистической почве. М.И. Стеблин-Каменский в частности пишет: «Я буду называть “литературным языком” такой язык, который используется как стандарт» [22: 47]. Ср. также: «стандартный (или так называемый литературный) общерусский язык» [16: 189]. Большинство же российских германистов и славистов последовательно оперируют термином литературный язык . Для них – это, говоря словами Ф.П. Филина, «реальность, не подлежащая никакому сомнению» [23: 3]. Как бы ни сужалось значение этого термина в концепциях некоторых авторов, «оно (если только определение “литературный” не лишается полностью присущего ему содержания и не превращается в чистую условность) всегда остается гораздо более широким, чем значение термина “стандартный язык”» [6: 9].
В англоязычном терминологическом ареале обозначение literary language, широко использовавшееся в ХУII–ХIХ веках, фрагментарно в первой половине ХХ века, уступило свое место термину standard language, впервые зафиксированному в 1711 году и вошедшему в активное употребление к концу ХIХ века. Обозначения literary language и standard language разводят две разновидности английского языка с учетом их ориентации – эстетической (художественная литература) и риторико-прагматической (деловое общение, бизнес, средства массовой коммуникации, наука) [3: 27, 28]. Ср. замечание Б.П. Нарумова о стандартизации как новом технократическом способе конструирования литературных языков и о самом термине стандартный язык:
« Термин “стандартный язык” хорошо отражает не только результат лингвистической стандартизации, но и предназначение новой формы существования языка – служить целям исключительно утилитарной коммуникации, в которой языковые формы используются стандартным, нетворческим образом, например, в деловой сфере. Поэтому стандартный язык противопоставляется другим разновидностям культивируемой речи по признаку утилитарность / креативность» [13: 52, 53].
Обозначение стандартный язык настойчиво завоевывает терминологическое пространство. В Японии оно употребляется для именования не столько реально функционирующего языка, сколько некоторого идеала, эталона. Языком, реально используемым значительным числом японцев, является так называемый «общий язык» [1: 18].
Термин стандартный язык стал наиболее обычным обозначением обработанной формы языка и в современной романистике. Он сменил терминологическое словосочетание литературный язык , хотя не вытеснил его полностью. Термины используются как частичные синонимы [13: 47].
В контексте немецкой германистики терминологическая номинация литературный язык (Literatursprache) также может иметь двоякий смысл: 1) относящийся к Hochsprache, Schriftsprache, Standardvarietät; 2) использующий в качестве образцового язык художественных литературных источников [29: 461; 38: 415, 416]. Термин стандартный язык (Standardspra-che), появившийся в немецком лингвистическом обиходе с начала 70-х годов, закрепился за понятием современного слышимого и читаемого, звукового и письменного немецкого языка, употребляемого всеобще и повсеместно, свободного как от диалектных черт, так и от речевых элементов, специфических для отдельных социальных слоев и групп («…die heutige ge-hörte und gelesene, gesprochene und geschriebene deutsche Sprache, soweit sie als allgemein gebraucht, als nicht-mundartlich und als nicht-schichtenspezifisch betrachtet wird» [33: 610]).
Катализатором начала формирования стандартного языка было наличие в коммуникативной системе общества «двух или трех близких в лингвистическом отношении вариантов письменного языка». В этих условиях общество оказывалось в ситуации, когда стандартный язык ему становился просто необходим [2: 14, 16].
О немецком стандартном языке как основе для других устных и письменных социокультурных речевых коммуникативных проявлений (ли- тература, наука, служебная переписка) принято говорить, начиная с XVII века [39: 602]. С XIX века он – центр языковой коммуникации [27: 13]. Для XIX–XX веков характерна некоторая переоценка нормативных представлений в сфере как письменного, так и устного стандарта. С начала XX века письменный стандарт испытывает все меньшее влияние литературы (экспрессионизм, натурализм, буржуазный консерватизм, позднебуржуазный гуманизм) и все усиливающееся давление устного разговорного обихода, а также языка науки, техники, экономики, прессы [31: 603–608]. Указанная тенденция сохраняется и по настоящее время. См. об этом:
«Nun war und ist die Standardsprache, die Varietät mit der größten Themenvielfalt und Referenzbreite, mit der größten kommunikativen Reichweite, zu keiner Zeit so dominant gewesen wie heute; als vielfältige Geber- und Nehmersprache bildet sie das plu-rofunktionale Zentrum des ganzen Sprachfelds, dafür sorgen auch die omnipräsenten Medien. Die Standardsprache, früher auch Hochsprache genannt, hat im Laufe der Ge-schichte eine besondere Ausweitung und Qualifizierung erfahren; im 18. Jahrhundert (und darüber hinaus) war sie fast identisch mit der einheitlichen Literatursprache; im 19. und 20. Jahrhundert stieg sie zur allgemeinen Schriftsprache auf, und Ende des 20. Jahr-hunderts spricht man sogar von einer Standardisierung der gesprochenen Sprache; und wenn man der Varietätenlinguistik folgen kann, bildet sie (noch) das Zentrum der wech-selseitig wirksamen Existenzformen» [28: 20, 21].
Термин стандартный язык выдерживает проверку на политкорректность (ср. Hochsprache, Kultursprache), он более доступен для понимания по сравнению с Schriftsprache, Gemeinsprache, Einheitssprache, Literatursprache, интернационален, отличается легкой и удобной сочетаемостью и, что очень важно, императивен. Стандарт для любого носителя языка – это образец, которому все должно удовлетворять по своим признакам, свойствам, качествам, в том числе индивидуальная речь. Понятие стандартный немецкий язык декларирует общественную значимость владения немецким языком на заявленном стандартном уровне, что обеспечивает его «практически повсеместную известность в кодифицированной или очень близкой к ней форме» [17: 13] и гарантирует его трансрегиональность и транссоциальность.
Как представляется, стандартный язык - это в известном смысле уступка общественно-культурному развитию последнего столетия, выразившаяся в явной либерализации языковых норм и их некотором обособлении от литературной нормы (Schriftsprache, Literatursprache), ориентированной в целом на письменность.
Тенденция языкового развития, конкретно проявляющаяся в «наиболее сильной нивелировке языка и упрощении в нем, происходящая тогда, когда к участию в данном языке привлекаются новые <…> группы населения», т.е. изменяется (количественно и качественно) «контингент носителей данного языка», его «социальный субстрат» [16: 189], чаще всего описывается с помощью термина демократизация (см., например, [5; 24]. Справед- ливости ради следует заметить, что феномен сближения литературного языка с обиходно-разговорным отмечен и противоположной демократизации тенденцией – интеллектуализацией, элементы которой могут проявляться в обиходно-разговорном языке и даже проникать в диалект [5: 59].
Тот факт, что на чистом литературном языке не говорит (и не пишет) ни один носитель немецкого языка и что авторская речь произведений художественной литературы также не отвечает критериям истинной «литературности», стал очевиден уже довольно давно.
Понятийная и терминологическая актуализация языковых сущностей, в первую очередь в сфере «литературного» языка, и их «привязка» к реалиям современного речевого общения встала весьма насущно перед филологической наукой. Попытки ее решения просматриваются, в частности, в сфере лингвокультурологии. Лингвокультурный подход закрепляет конкретную форму существования языка за определенным культурным срезом. Так, «культура образованного слоя», «книжная», или элитарная, культура коррелирует с литературным языком [12: 74, 75]. Эталонная, элитарная речевая культура подразумевает «свободное владение всеми возможностями языка, включая его творческое использование» [4: 414]. Тот факт, что носителей элитарной культуры и соответствующего ей литературного языка в современном обществе можно пересчитать по пальцам, что «говорение» интеллигента уже не в такой степени отличается от «говорения» крестьянина, как «ходьба по канату от естественной ходьбы и как дыхание факира от обычного дыхания» [15: 233], заставляет отечественных лингвистов кратно снижать планку «элитарности» и «истинной литературности». «Несостоявшаяся элитарная речевая культура», в большей или меньшей степени ущербная с точки зрения возможностей полноценного и творческого использования языка, предстает в следующих трех типах речевой культуры – сфер действия литературного языка: среднелитературной, литературно-разговорной и фамильярно-разговорной [4: 414].
В.М. Алпатов, выделяя этапы развития языков культуры, предположил, что на наших глазах начинает формироваться новый, четвертый этап (I – общий язык, II – этап преднациональных языков, III – этап национальных языков), отмеченный двумя параллельными процессами: 1) стиранием грани между обработанными и необработанными формами существования языков и между национальными языками и языками, не достигшими такого статуса; ростом прав диалектов и языков меньшинств; распространением во многих жанрах (особенно в художественной литературе и публицистике) ненормативных лексических и грамматических форм как отражение описанных выше реалий; 2) возрастанием международной функциональности немногих привилегированных языков, прежде всего английского, и появлением функциональных сфер, которые частично или полностью не обслуживаются национальными языками [1: 16].
Общеизвестно, что области спорта, поп-культуры и, конечно же, компьютерной техники особенно сильно «поражены» англо-американской лек- сикой. Вторя И.В. Гёте: Die Gewalt einer Sprache ist nicht, daß sie das Frem-de abweist, sondern daß sie es verschlingt, Д. Циммер выносит приговор: Die zur Assimilation unfähige Sprache ist eine tote Sprache [46: 73]. Опасность для национальных языков видится ученому не в потоке иностранных слов, а в «полной свободе передвижения» (Bewegungsfreiheit) в пределах языковой системы языков-реципиентов, к тому же еще и по собственным правилам. Активность немецкого языка в процессе ассимиляции компьютерной лексики оценивается Д. Циммером лишь в 57%, из каждых 111 слов «онемечиваются» лишь 63 (ср. данные по другим европейским языкам: финский – 93%, французский – 86%, польский – 82%, испанский – 80%, шведский – 69%, нидерландский – 68%, итальянский – 65%, датский – 52%). Упрёк в оригинале сформулирован следующим образом:
«Deutsch hat seine Assimilationskraft weitgehend eingebüßt. Es ist kaum noch im-stande, fremdsprachliche Wörter und Wendungen entweder zupackend und überzeugend zu übertragen oder sie wenigstens den ausländischen Sprachgesetzen ein Stück weit an-zupassen. Es ist kaum noch dazu imstande, und es will es auch gar nicht mehr sein» [46: 70].
Соглашаясь с Д. Циммером в том, что немецкий язык «неохотно» калькирует англо-американские словарные единицы, несправедливо не отметить его словообразовательную активность и креативность. Наиболее продуктивной моделью ассимиляции англо-американизмов языка компьютерного общения является комбинированный способ словообразования (см. об этом: [14]).
Четвертый этап языкового развития (по В.М. Алпатову) соответствует демократическим плюралистическим обществам, которые «доросли» до дифференцированного понимания нормы как некоторого множества. Плюрализм нормы проявился на метаязыковом уровне в замене единственного числа (норма, Norm) на множественное (нормы, Normen). По мнению Л. Гётце, факт признания множественности нормы, культивирование толерантного отношения к другим нормам (Normtoleranz) вместо насаждения одной – при сохранении в качестве образцового стандартного языка в его устной и письменной форме – гарантирует всем членам общества (а не только привилегированным) право на саморазвитие [34].
Возвращаясь к термину стандартный язык , заметим, что на отечественной почве он изначально подвергался критике (см., например, [23]) и не получил широкого распространения.
Диалект .
«Der Dialekt, vor allem der Dialekt meiner Geburtsstadt Frankfurt am Main, ist füt mich der eigentliche Körper der Sprache, ihr Blut, ihre Muskulatur, über die sich die glatte Haut der Hochsprache spannt. Wie in der großen Ma-lerei der Vergangenheit, als man die Modelle zunächst nackt konzipierte und dann erst anzog, lohnt es sich auch bei der Sprache, zu wissen, welch ein leiblicher Kern in ihr verborgen ist» (M. Mosebach).
Рассуждая о диалекте, Э. Сепир акцентирует внимание на различиях в его восприятии лингвистом и простым обывателем. Специалист не находит принципиальной разницы между «диалектом» и «языком», понимая, что «подавляющее большинство так называемых диалектов – это просто регулярно развивавшиеся в разных направлениях более ранние формы речи, предшествовавшие засвидетельствованным языкам» [21: 216, 217]. В чисто бытовом употреблении диалекту нередко сопутствуют некоторые отрицательные коннотации. Диалектная речь характеризуется как «отступление от нормы» и даже «искажение нормы».
Такое представление о диалекте присуще носителям языка, не владеющим диалектной формой речи, либо использующим другой диалект (другой вариант немецкого языка). Об этом следующие литературные примеры:
«Sag mal, Kind, wie sprichst du denn überhaupt? Das ist mir vorhin schon aufge-fallen, du hast dir ja einen entsetzlichen Dialekt angewöhnt“… „Laß sie doch, ich finde, es klingt ganz ulkig», meinte Tante Else … «Das klingt nicht ulkig, das klingt furchbar, und du mußt unbedingt darauf achten, Reni, daß das Kind wieder einwandfreies Hoch-deutsch lernt» (E. Sanders. Mit Fünfen ist man kinderreich).
«Mein Dialekt ist jedenfalls vollständiger als dieses rachitische Schwyzerdütsch» (G. Spranger. Treffpunkt Bern).
Отрицательной коннотацией маркировано и обозначение ареально окрашенной немецкой речи – Hochdeutsch mit Knubbeln, Knubbeldeutsch. Альтернативная стандарту речевая реализация с диалектными вкраплениями сравнивается с плохо протертым супом.
Языковое сознание носителей диалекта принимает различные формы в зависимости от многих факторов, в первую очередь, от социальногосударственной политики. Она может быть толерантной и уважительной, признающей право каждого гражданина на родной язык, в данном конкретном случае – «особый язык локально-связанных и исконных занятий крестьянина, горняка, рыбака, охотника, винодела, ремесленника» [9: 13, 14], живописующий диалектную картину мира. С помощью родного диалекта человек передает все самое сокровенное, индивидуальное, интимное, все то, что на стандартном языке звучит, по его мнению, слишком «напыщенно». Ср. мнение носителя баварского диалекта:
Fröhmer: Der Dialekt is für mi des Individuellste was der Mensch überhaupt ham ko. Nur übern Dialekt konn I mich ausdrücken, konn I des sogn, wos I wirklich moan. Des komma a ganz schwer erklärn, sondern des moas ma a einfach gspürn. Entweder du spürst es, oder du spürtst es net. Und "ich liebe Dich", des horcht sich für uns so gschraubt o. Aber I mog Di, des is vuil mer (Alltagsdeutsch (14/04) 06.04.04 «Bai-risch»).
Государство может использовать по отношению к носителям диалекта (меньшинству) политику языкового империализма, насаждая языковой стандарт, третируя диалектную речь как неграмотную, пренебрегая куль- турной ценностью диалектов и их ролью в истории развития национального языка. Давление государственной системы с отчетливой ориентацией на стандартный язык приводит к переоценке ценностей. Носители диалекта начинают воспринимать свою родную речь как «второсортную», культурно, социально и функционально ущербную (см. об этом на примере русского языка: [10: 66, 67]).
Даже в случае отсутствия комплекса языкового самоуничижения у носителей диалекта, для будущих поколений родители, как правило, выбирают престижную языковую форму – стандарт . Решающим фактором языкового самоопределения – только диалект , только стандарт , диалект и стандарт – являются виды на будущую профессиональную деятельность и место жительства.
На протяжении многих столетий (начиная с ХУI века) немецкие диалекты существовали на фоне функционального свертывания. Периоды «диалектного ренессанса» (Dialektrenaissance) носили волнообразный характер (Dialektwelle), не изменяя общего вектора направления на глобальное отступление этой речевой разновидности. Прогнозы на будущее, высказываемые с разной степенью категоричности, вряд ли можно расценить как оптимистические. Так, Н.А. Закуткина начинает перечисление факторов, ограничивающих изучение диалектных картин мира, с фактора времени – «постепенного исчезновения диалектов». По мнению автора, для спасения диалекта необходимы особые условия, поддерживающие естественный процесс его развития в рамках «диалектного сообщества как дееспособной, сплоченной, креативной группы людей, связанных естественными условиями сельской жизни». Судя по реалиям нынешнего этапа общественного и языкового развития, требуемое условие не выполнимо. Поэтому на диалектную сцену приглашаются специалисты-диалектографы с задачей консервации духовных ценностей, заложенных в диалектной картине мира поколениями его носителей (см. об этом: [9: 23, 24]).
Ю. Эйхгоф, давая положительный ответ на вопрос, умирают ли диалекты (Sterben Dialekte aus?), вынесенный им в название статьи, уточнят о каких «диалектах» может идти речь. Признак «диалектности» присущ не только собственно диалекту (Basisdialekt), не только интердиалекту (Ver-kehrsdialekt), отличающемуся меньшей степенью «диалектности» и соответствующему уровню ослабленных диалектных признаков (Dialektverfall / Dialektabbau), но и обиходно-разговорной речи (Umgangssprache) – уровню утраты диалекта (Dialektverlust), но не диалектной окрашенности, наслаивающейся на стандартную основу. Таким образом, развиваясь по пути Ba-sisdialekt → Verkehrsdialekt → Umgangssprache → Standardsprache, диалектные формы теряют свою диалектную субстанцию и сферы влияния [32]. Однако, по мнению Ю. Эйхгофа, диалектные оттенки региональных обиходно-разговорных языков и в будущем будут поддерживать идентичность немцев северных и немцев южных:
«Auf Grund solcher Merkmale werden Sprecher im Norden bzw. Im Süden des Sprachgebiets auch in Zukunft das Identität stiftende „Wir Norddeutschen“ oder „Wir Süddeutschen“ sagen können» [32: 87].
Этот вывод вытекает из того факта, что даже стандартный язык звучит на севере не так, как на юге Германии, ибо фонетические и фонологические особенности – качество гласных и согласных, супрасегментные и просодические характеристики речи – практически не поддаются нивелированию.
Метафора возрождения в приложении к диалекту (Dialektrenaissance) представляется слишком сильной. Ведь речь может идти не о повсеместном переходе на диалектную форму речи, а лишь о корректировке общественного отношения к диалекту (толерантность), возрастании научного интереса к диалектному материалу (языкознание, лингвистика, литературоведение), об обыгрывании «диалектного вопроса» художниками слова (см. о немецкой диалектной литературе [44]).
Новая диалектная волна пришлась на конец ХХ века. Ср.: Today, two contrary processes influence dialect usage in Germany: dialect decline and dialect renaissance [35: 146]. При этом диалектный материал вышел на более широкий простор, чем обычно. Диалект частый «гость» радиопередач и телевизионных ток-шоу. На диалекте издаются газеты, в форму диалекта облекаются рекламные тексты, на диалекте читаются проповеди, пишутся стихи и книги, ставятся театральные постановки, реализуются проекты по ознакомлению школьников с диалектами их «малой» и «большой» родины. Слоганы в диалектном исполнении – атрибут аппозиционных (протестных) политических и общественных движений. В качестве примера – «Три шванка из прошлого» постоянной рубрики «Новой Оснабрюкской газеты» «Wi kürt Platt»:
Wi kürt Platt
Dree Swänke ut aule Tiet
Van Reinhard Niemann
Doa is äs en Bur met Piärd un Wagen van Vörden nao Ossenbrügge föehrt. He schall in de Stadt Pötte un Pannen kaupen, häff siene Fru em updriägen. In de Hasestrauten segg he to den Krämer: „Vanne Mu-orn häbbe ick in Vörden ol de Karlsteene in Hohne liggen sehn." -„Kann nich sien, sau wiet kann nich een Minske kieken", segg de Krämer. -„Man doch! Wüelt wie drümme wedden?" - „Kann nich!" -
De Bur häff de Wedde wunnen un de Krämer is nu siene Pötte un Pannen qduiet. En ännermol kümp e Vördenske Bur met 'nen Föer Turf nao Braumske. Unnerwiägens heff he vergi-äten, wu de Minske hett, den he den Turf bringen schall. „Wees du nich, wu de Minske hett, de den Turf hebben will?" frogg he eenen up de Strau-ten. De weet dat ja nich un segg, he scholl man nao'n Pastor gaohn, de harr en
In'n Engtersken wäd de Lüe ault,dat segg us düt Vertellsel: En ganz aulen Kiärl steht up'n Burenhoff in de Niendüren, den lo-pert de Traunen üöver de Backen. „Wat is met di denn, wat grinst du sau?" frogg en Minske, de güst de Strauten langes kümp. -„Och, ick häbbe güst van mienen Vaar wecke an'n Balg kriägen."-„Watt seggs du, dien Vadder slägg di? Du bis doch ol wisse baule achtzig! Wat hasse denn
„Kann doch!" krieget se sick in de Wöerde. „Ick will di't wiesen, kumm mit! Häbbe ick recht, moß du mi Pötte un Pannen üm-mesüß doen. De Kaupmann is ja nu en niggelicken Minske un lät et d'r up an-kuomen. Kann nich anga-ohn, düt Wiärks, denket he bi sick un klegget bi den Buren met up'n Bück. Os se ut Ossenbrügge rut sind un dür'n Hohn kuomet, ligget doa rechterhand de Karl-steene. „Süh, nu moß du mi dat gläuven", segg de Bur, os se d'r an vörbiju-ckelt, man kann se in'n föhrden liggen sehn.
Taufbook, doa stönnen de Namens olle in. De Bur föehrt nao'n Pastor. He häff dat ower nich richtig verstaohn. „Herr Paster, se häbbet doch dat Turfbook, segget se mi äs, woa ick den Turf henbringen schall." -„Ja, mien leeven Mann, dat kann ick doch nich wietten!" - „Wenn Se mi dat nich seggen wüelt, dann will ick Se woll besin-nen helpen", ropp de Bur, is heel dull un haalt met de Swippen (Peitsche) ut. -„Nu jaget se mi doch nich söck eenen Schreck in!" -„Richtig!" röpp de Bur, „Schreck hett he! Höö!" Un af föhrt he.
utfriäten?" - „Ick scholl mienen Opa ut'n Bedde büern, doa häbbe ick'n fallen lauten. Opa hägg schrägget un doaf häff mien Vaar mi wecke tunket." -„Wat seggs du doa, dien Opa liäbet auk no, Herr-dumeinslebens! Wu ault is he denn?" - Dat kann'k garnich sau richtig seggen. Man wenn du't genau wietten wuß, dann goah man en Enne wieder. Doa achtern bi de Kiärken, doa is dat Pastorenhus un doa wuohnt use aule Pastor, de weet dat, de häff en dopt (getauft)."
Традиционной сферой адаптации диалектного материала является беллетристика (Dialektpoesie). В 1986 году президиумом правительства Северного Бадена совместно с объединением «Краеведение Северного Бадена» учреждена литературная премия (Mundartpreis) за лучшие произведения на алеманнском диалекте. Почитатели таланта В. Буша, который не раз заявлял о своем «двуязычии» (немецкий стандарт и нижненемецкий диалект), могут наслаждаться двумя его произведениями в переводе на нижненемецкий, кёльнский, швабский, баварский, цюрихский и венский немецкий. Имеются в виду изданные М. Гёрлахом весёлые карманные книги «Max und Moritz in deutschen Dialekten» (1982) и «Plisch und Plum in deutschen Dialekten» (1984) [25: 217; 45: 157; 11: 665; 42]. Очень популярны так называемые «фольксбюнен» (нем. Volksbühne – букв. народная сцена), язык театральных постановок которых, транслируемых по телевидению на всю Германию, представляет собой смесь из диалектного, социолектного, обиходно-разговорного и литературного языкового материала. Так, с народной сцены знаменитого гамбургского театра Онзорга (Ohnsorg-Theater) звучит нижненемецкий диалект (Platt), нижненемецкий полудиалект (Halbplatt), гамбургское городское койне (Missingsch) – смесь литературного языка с нижненемецкими диалектными вкраплениями, а также постоянно более или менее ганзейски отмеченный стандарт (hanseatisch ge-färbtes Hochdeutsch) [45: 157].
Полное представление о культурных инициативах по сохранению диалектов можно почерпнуть на страницах Интернета.
С тех пор как электронные средства вторглись в пределы индивидуального общения, специалисты регистрируют появление новых типов текстов, правила порождения которых в корне отличаются от известных и регулярных образцов. Анализ электронных чатов заставил заговорить о них как о «проводниках региональной письменности» (Chats als Wegbereiter einer regionalen Schriftlichkeit [37]).
Хотя немецкоязычное компьютерное сетевое общение в целом ориентировано на разговорный стандарт, в нем все чаще регистрируются диалектизмы. Сетевые вариации диалектно-стандартного континуума имеют несколько видов. Включения типа moin, gell, dat, wat на фоне разговорного стандарта расцениваются как рефлексы концептуальной устности. Говорить об использовании другой нестандартной разновидности речи (диалекта) можно в тех случаях, когда диалект представлен текстово в сумме признаков (фонетических, лексических, грамматических). При этом участники сетевого общения могут варьировать форму выражения, включая / выключая региональный канал связи, как в следующем примере:
> hawwe die deitsche gewunne oder was
noch ned;)
Не исключено использование только диалекта:
Hallo NAME, meschd nix mi dem Kochkees, s`gibbt jo a noch oannern gudde Sa-che. Zum Beispiel den Prager Schinke in de Gerwebach an de Kerwe. Isch hebs nem-lisch gschafft, do zu soi. Hoscht was vabasst! Schee wars!
Gruss NAME (Цит. по [26: 183]).
Активное применение диалекта характерно в первую очередь для чатов, географически тяготеющих к югу (Бавария, Австрия, Швейцария).
По мнению Г. Дингельдейна, языковая ситуация современной немецкоязычной Швейцарии сравнима с языковым состоянием Германии первой половины ХХ века. На тот период времени понятия «язык повседневного общения» и «диалект» фактически совпадали. В Швейцарии наших дней знак качества «стандарт» применим по отношению к письменному речевому продукту. Устное повседневное общение осуществляется на местных наречиях [30: 6].
Стандарт →→→→→→→→→→→→→→→ письменно
Язык повседневного общения = диалект →→→ устно
Эра Интернета внесла свои коррективы в медиальную диглоссию в связи с проникновением диалекта в сферу виртуальной письменности с оттеснением стандарта (и в чатах) на позиции официального общения. Объём диалектных страниц на швейцарском домене оценивается в 22 % [43].
Стандарт →→→→→→→→→→→→→→→ письменно
Язык повседневного общения = диалект →→→ устно и письменно
Феномен сетевой «письменной устности» – спонтанное письмо на диалекте без правил – в целом поддерживает общую тенденцию на публичную письменную фиксацию диалекта (или швейцарско-немецкого), наблюдаемую в немецкоязычной части Швейцарии [37: 368].
Германия и Австрия в этом плане более консервативны, однако пример электронной текстовой продукции с упрощенными нормами языкового употребления может оказаться заразительным и для средств массовой информации этих стран, в особенности самых новых.
Появление феномена «письменная устность», который на юге немецкоязычного региона имеет отчетливые диалектные признаки, может, по мнению Б. Келле, указывать на то, что языковая плюроцентричность является реальностью общественной жизни и прокладывает себе путь в том случае, если, как в чатах, не действует обязательная норма [37: 369].