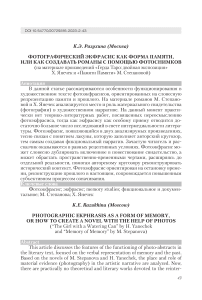Фотографический экфрасис как форма памяти, или как создавать романы с помощью фотоснимков (на материале произведений "Герда Таро: двойная экспозиция" Х. Янечек и "Памяти памяти" М. Степановой)
Автор: Разухина К.Э.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 2 (65), 2023 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматриваются особенности функционирования в художественном тексте фотоэкфрасисов, ориентированных на словесную репрезентацию памяти и прошлого. На материале романов М. Степановой и Х. Янечек анализируется место и роль материального свидетельства (фотографии) в художественном нарративе. На данный момент практически нет теорико-литературных работ, посвященных переосмыслению фотоэкфрасиса, тогда как экфрасису как особому приему отводится достаточно большое число исследований в свете интермедиальности литературы. Фотоэкфасис, появляющийся в двух анализирумых произведениях, тесно связан с понятием лакуны, которую заполняет авторский кругозор, тем самым создавая фикциональный нарратив. Зачастую читатель и рассказчик оказываются в равных рецептивных условиях. Фотоэкфрасис может словесно дублировать включенное в повествование свидетельство, а может обрастать пространственно-временными чертами, расширяясь до отдельной реальности, помогая авторскому кругозору реконструировать исторический контекст. Фотоэкфрасис ориентирован на остановку времени, реконструкцию прошлого в настоящем, сопровождается повышенным субъективном процессом означивания.
Фотоэкфрасис, экфрасис, фикциональное и документальное, м. степанова, х. янечек
Короткий адрес: https://sciup.org/149143103
IDR: 149143103 | DOI: 10.54770/20729316-2023-2-43
Текст научной статьи Фотографический экфрасис как форма памяти, или как создавать романы с помощью фотоснимков (на материале произведений "Герда Таро: двойная экспозиция" Х. Янечек и "Памяти памяти" М. Степановой)
«Постпамять описывает, какое отношение имеют последующие поколения к личным, коллективным и культурным травмам, к изменениям, которым подверглось поколение предыдущее» [Ерохина 2017, 270], – пишет в своей статье «Что такое поспамять» М. Хирш. Феномен так называемой генетико-исторической памяти, касающийся перепроживания особо травматичных событий прошлого в настоящем, всегда переосмыслялся писателями: равно как создателями «больших романов», так и поэтами, ищущими способ анализа подобных болезненных узлов истории.
Оба рассматриваемых нами романа на разных уровнях своей структуры включают в себя рефлексию памяти, и шире – постпамяти, каждый с разных точек зрения. «Романс» М. Степановой представляет собой попытку автофикциональной пересборки личной, семейной памяти на фоне большой истории XX в. Если у Степановой личное, в попытке выведения его из «забвения», превалирует над историческим фоном, звуча множеством голосов членов ее семьи (и не только), то в романе Янечек «полифония» редуцирована: ракурсами видения обладают только те герои, которые способны предоставить автору деталь для общей мозаики, в центре которой находится первая женщина фоторепортер – Герда Таро. Она становится своего рода каркасом, который обрастает плотью исторической панорамы.
Они работают по-разному и с документальными материалами, что в значительной степени трансформирует как наррацию обоих произведений, так и размывает границу между fiction и non-fiction. В «Памяти памяти» читатель сталкивается с «вненарративной репрезентацией материала» [Гримова 2020, 141], поскольку авторский кругозор не может придать целостность семейной истории средствами фабульного повествования. Роман Янечек только отчасти содержит в себе биографический модус повествования: память героев движется хаотично, выстраивая полноценный художественный мир с фикциональными законами. Однако, их в значительной мере объединяет работа со свидетельствами, а именно, работа с фотографическими носителями прошлого.
В данной статье мы обратимся к понятию экфрасиса, к которому прибегают оба автора, пытаясь реконструировать прошлое, и посмотрим, как память может функционировать в произведениях, где фотографические снимки, во-первых, сохраняют статус свидетельств, во-вторых – превращаются в способ образного выстраивания ушедшей реальности. Одним из центральных вопросов, на который нам предстоит ответить, станет представление о месте и роли читательской позиции в соотношении с интенциями обоих авторов.
Если обратиться к поздней античности, в частности, к «Искусству риторики» Дионисия Галикарнасского, природа экфраза покажет себя во всей своей двойственности. С одной стороны, экфраза, как пишет Н.В. Брагинская – риторический прием: «описательная речь, отчетливо являющая глазам то, что она поясняет» [Брагинская 1997, 261], распространяющаяся на портреты, времена года, пейзажи и любой объект, получающий описа-тельность в риторической форме; с другой – «экфразе ничего не мешает быть отдельным произведением» [Брагинская 1997, 261]. Постепенно каталог объектов, к которым относится текстуальная репрезентация, сужается: в кругозоре писателей остаются только произведения искусства (картины, архитектура, скульптуры). Однако вопрос фикциональности литературы, который косвенно затрагивает область риторики, выдвигается на первый план, так как литература «описывает» в структурных плоскостях особый универсум, у которого есть некий референт в виде действительности, не отражающейся напрямую в произведении. Согласно Р. Ингардену, «речью», «являющей глазам то, что она поясняет», становится «видовой» уровень любого произведения: он представляет интенциональную надстройку предметного уровня и позволяет границам художественного мира становиться «зримыми» [Ингарден 1962, 27]. Таким образом, мы сталкиваемся не только с риторическим слоем произведения, но и с некоторой семантической нагрузкой.
Еще Платон считал, что всякое искусство лишь слабо отражает и удваивает мир Идей. Следуя этой логике, экфрасис прежде всего ориентирован на утроение, словесную репрезентацию уже имеющегося в действительности предмета искусства, в котором потенциально заложена некая художественная интенция: «В экфрасисе описывается в такой же мере предметный мир, как и его художественное изображение. Референтность как бы двоится» [Ходель 2002, 25]. Следовательно, если картина вторичным образом связана с действительностью, а литературное произведение включает в себя его репрезентацию, то происходит некоторая семантическая перекодировка, которую можно было бы связать с процессом «перевода». В этом случае фотоэкфрасис становится достаточно проблематичным конструктом, поскольку сама фотография имеет дело с тем, чего уже нет в действительности, а ее референт принадлежит уже исчезнувшему прошлому: «Все фотографии – memento mori. Фотографировать – значит участвовать в смертности, уязвимости, изменчивости другого человека (или вещи). Точно отсекая этот момент и замораживая его, все фотографии свидетельствуют о безжалостном таянии времени» [Cонтаг 2013, 28].
Вопросом репрезентации, в данном случае, проблематика экфрасиса не исчерпывается: «Экфрасис не просто описывает произведение искусства, он играет сложную роль, выражая идеи автора, причем, чаще всего на нескольких уровнях литературного текста» [Брагинская 1997, 262]. В области повествования, как справедливо отмечает Р. Ходель, экфрасис делает восприятие читателя затрудненным: появляется ретардация, которая останавливает ход действия, в связи с чем внимание реципиента ослабляется, в то время как автор может раскрыть некоторые основные и смыслообразующие «идеи» произведения: «Тот факт, что предмет описывается подробно, служит на уровне нарративности причиной выхода экфраси-са из рамок привычного повествования. Детальное изложение достигает определенной завершенности и автономии по отношению к окружающему тексту» [Ходель 2002, 24].
В отечественной традиции практически нет работ, посвященных анализу фотоэкфрасиса (исключение составляют статьи В.Я. Малкиной, Т.А. Быстровой, М.Д. Самаркиной и О. Судленковой). Теоретические аспекты этой композиционно-речевой формы также, как правило, опускаются или не освещаются в достаточной степени. Между тем, понятие экфрасиса в самом себе заключает «проблематизацию границ между искусствами» [Геллер 2002, 10] в свете интермедиальности литературы.
Представляются существенными соображения Л. Геллера, обратившего внимание на важность точки зрения смотрящего, участвующего в сотворчестве. Смотрящий – это не только читатель, в чьей имагинации происходит реактуализация символических смыслов словесных описаний визуальных объектов – это еще и герой, а также автор, чье сознание в значительной степени маркирует и обуславливает горизонты видения: «Экфрасис переводит в слово не объект (это невозможно) и не код <…>, а восприятие объекта и толкование»; «Экфрасис <…> – это запись последовательности движений глаз и зрительных впечатлений» [Геллер 2002, 10]. Возможно, словесное описание фотографических изображений ориентировано не столько на реконструкцию, сколько на развоплощение фотографии как возможного репрезентанта ушедшей реальности. Необходимо также упомянуть мысль Геллера о том, что современное искусство не считается с принятой оппозицией Лессинга между пространственными и временными искусствами. Касательно фотоэкфрасиса данный тезис может оказаться не релевантным. «Слово “временно”, а значит динамично <…>; оно способно выразить больше, чем видит глаз. Напротив, картина представляется пространственной <…> а в описании картины видится стремление остановить время. Слово должно “застыть”, изобразив “застылость”» [Геллер 2002, 11]. Предварительной гипотезой в отношении фотоэкфрасиса можно считать, что словесная передача визуального ряда ориентирована на фиксацию и остановку времени.
Если Ходель считал, что экфрасис требует от читателя повышенного внимания, то в романе Степановой не только фотоэкфрасис служит ретардации – весь роман предстает как движимый анарративный конструкт, который в своем становлении пытается оформиться в некоторую «исто- рию». Гримова называет это отказом от нарративной интриги, мы же будем считать, что так «обнажается прием» авторского замысла выведения из забвения истории своей семьи и дозволения свидетельствам (письмам, дневникам, фотографиям) говорить самим за себя: «Этот отказ, в свою очередь, становится следствием своеобразного конфликта замысла и его воплощения» [Гримова 2020, 142]. Главной преградой в осуществлении этого замысла являются «пропуски» и «умолчания», которыми изобилует семейный архив рассказчицы как «место памяти» (термин П. Нора). Заполнить эти пробелы чистой фикцией в линейной последовательности становится не только затруднительно, но и непродуктивно. Разломившийся язык под действием травматического опыта XX в. не только не принесет целостности разрозненным фрагментам, но и поставит под вопрос сам процесс «означивания», а значит, многочисленные голоса не выйдут из забвения: «История семьи, которую я запомнила в поступательном темпе линейного нарратива, разваливалась в моем сознании на квадратики фрагментов, на сноски к отсутствующему тексту, на гипотезы, которые не с кем проверять» [Степанова 2021, 24]. Все семейные истории, письма, документы, фотографии, а иначе говоря, «тексты», «становятся своего рода средой, витриной, <…> в которую инсталлировано то, что Ж. Рансьер называет “монументом” и противопоставляет “документу” – объект, сам по себе являющийся свидетельством о прошлом, а не рассказывающий о нем» [Гримова 2020, 142].
Ориентация на смотрящего в экфрасисе подтверждается самими эссе-итическими рассуждениями Степановой о специфике фотографии: «Если бы мне надо было объяснить, что я имею против изображений, я сказала бы, что у них общая болезнь, эйфорическая амнезия – они не помнят, что они значат, откуда взялись, кто их родня, но прекрасно себя при этом чувствуют» [Степанова 2021, 47]. Перед смотрящим, таким образом, предстает немое изображение, которое может воздействовать аффективно: «Картинка соблазняет иллюзией экономии: там, где текст только разворачивает первые фразы, фотография уже пришла, ужаснула…» [Степанова 2021, 47]. Опираясь на постпамять, рассказчица пытается оживить эти немые структуры, дать им тело и голос, но не восполнить «зияющие» места.
Фотографический экфрасис, появляющийся в «Четвертой главе» книги Степановой, апеллирует к реальному референту – найденной среди ненужных и «мертвых» вещей фотографии, на которой изображена обнаженная женщина. Описание конструируется согласно положению Геллера о доминанте смотрящего и его восприятия так, что фотография обрастает контекстом, выстроенной коммуникативной ситуацией, в которой участвует не только реципиент-рассказчица и женщина, как предполагаемый отправитель, но и некий адресат – возможный мужчина, считывающий взгляд героини на фотографии. Хотя найденный снимок является референтом словесного описания, изображенная женщина на нем – анонимна, «беззащитна» и обнажена для взгляда нарратора: «На фотографии была голая женщина, она лежала на диване и смотрела в объектив. Фотография была любительская, давняя, успевшая поджелтеть, но тип чувства, которое она вызывала, никак не соотносился с тем, например, что подразумевали прабабушкины парижские письма или дедушкины шуточные стихи <…> На фотографии было явно-запретное (что мало смутило бы меня, потихоньку от родителей вышедшую на поиск этого запретного), смутно-неприличное (хотя фронтальная нагота этой женщины была откровенной и бесхитростной), и, самое странное, оно не имело ко мне совсем никакого отношения» [Степанова 2021, 46]. Не случайно и то, что нарратор подчеркивает свой возраст – на момент обнаружения фотографии героине Степановой было двенадцать лет. Снимок воздействует аффективно не в силу своей подчеркнутой непристойности, а в силу того, что у потенциального смотрящего не получается установить контакт с изображением: рассказчица ощущает себя вытесненной из времени и ситуации.
Данный фотоэкфрасис строится как попытка неудачного поиска реф-ферентности: затекстовые люди, участвовавшие в создании данного фото, не предполагали вмешательства некоего «третьего». Происходит инициация смотрящего, посвящение в некоторую табуированную область через подчеркнутую телесность и эротичность описываемого фотоснимка.
На наш взгляд, свидетельство здесь не говорит строго за себя и своим голосом, приращение контекста и смыслов происходит за счет аффек-тивности описывающего сознания. На снимке фиксируется, становится «местом памяти» сам интимный акт («coitus interruptus» [Степанова 2021, 46], как называет его Степанова), в то время как женщина и затектовый адресат не выводятся из пространства забвения. Здесь косвенно поднимается этический вопрос, касающийся беззащитности изображенных людей на фотоснимках и того, имеет ли право смотрящий присваивать себе контекст, материю, которой гипотетически могут обрасти ушедшие в прошлое ситуации. Читатель же становится вторичным свидетелем данного интимного эпизода, его инициация опосредована взглядом рассказчика, однако ни тому и не другому не удается полностью восполнить лакуны и объяснить происходящее.
Фотоэкфрасисы, появляющиеся в главе «Некоторое количество фотографий», казалось бы, ничего не объединяет: скольжение взгляда нар-ратора происходит хаотично, многие пробелы остаются незаполненными, разные года перемежаются между собой, заставляя говорить то Советскую эпоху, то дореволюционное время. Но у данного повествования есть собственная рамка, которую можно назвать вещественной. У читателя складывается впечатление пролистывания чужого альбома как хранилища памяти, но «эйфорическая амнезия» фотоснимков, не позволяет медиуму-рассказчику создать из этого фабульно маркированное слово о семейной истории. Можно сказать, что реципиент и нарратор находятся в равных условиях, как если бы пролистывали альбом впервые.
Изображения визуализируются перед читателем в виде фрагментов, что с одной стороны соответствует самому расположению фотографий, а с другой укладывается в единый авторский замысел, который вовсе не ориентирован на целостность. Описывая снимки, рассказчица аппелирует к культурно-исторической, ассоциативной памяти читателя, которая ра- ботает на узнавание. Так на снимках появляются устойчивые контексты и детали: венский стул, дореволюционная мода мужчин и женщин, транспарант, фетовская борода, журнал «Огонек», Яков Свердлов, революция 1905 г. и т.д. Все эти детали появляются не случайно, так как точка зрения смотрящего всецело направляет визуализацию реципиента и его погружение в контекст. Они призваны как бы штрихом наметить единый образ, в котором семья Степановой сливается с общим историческим фоном. Автор выстраивает свою личную феноменологию взгляда и вводит понятие «мертвой зоны», «точку, куда так смотрят и откуда давно уже ничего не видно» [Степанова 2021, 42]. Она становится своеобразным «местом антипамяти», из-за которого невозможно сделать видимыми ушедшие времена и лица (поэтому многие герои в этом альбоме безымянны, за них говорит только внешний облик).
Первые три фотоэкфрасиса, вводимые Степановой, являются визуальной конкретизацией того остатка знания, который может быть доступен равно как рассказчику, так и читателю. Непреодолимая дистанция, установленная точками зрения людей, смотрящих в разные стороны, проецируется на концепцию «небытия», труп, с помощью которого студенты французского вуза осваивают врачебное дело. Сознание рассказчицы «означивает» лишь свою прабабку Сарру, но и она, наряду с другими студентками, не желает смотреть в мертвую зону: «Все взгляды, как прутья веника, направлены в разные стороны, и никто не хочет смотреть на ткани и сочленения мертвеца» [Степанова 2021, 37].
Вслед за Т.А. Быстровой, мы склонны считать, что появляющаяся в литературе XX–XXI вв. фототекстуальность, поднимает массу проблем, которая касается не только обновления формы тех или иных жанров, но и рефлексии «письма» в его этических и эстетических границах. Фотографический экфрасис, появляющийся в романе Янечек «Девушка с Лейкой» (или в переводе на русский «Герда Таро: двойная экспозиция») носит тотальный характер и проявляется практически на всех уровнях организации художественного текста. Фотография: 1) носит сюжетообразующую функцию, 2) участвует в моделировании композиции романа, 3) подразумевает документирующую функцию, 4) организует художественное время романа, 5) является художественным средством, позволяющим автору «проникнуть во внутренний мир героев» и выстроить портретные, визуальные характеристики героев [Быстрова 2021, 211].
Фотоэкфрасис в романе Янечек следует принципу, описываемому Геллером применительно к словесному описанию статичных «вещей», который он признал не релевантным в отношении современного искусства, пользующегося нарративными репрезентациями как подвижными моделями. Напротив, фотография в этом произведении выступает как артефакт, изображающий «застылость», и позволяющий остановить время, реактуализировать прошлое в настоящем. Появляющиеся в прологе и эпилоге романа фотоэкфрасисы соотносятся не только с квази-биографическим временем рассказчиков, вспоминающих Герду, но и с автобиографическим временем образа автора, который всячески стремится вписать свою личную память о семье во всеобщий исторический контекст, по аналогии с тем, что делала в своем «Романсе» Степанова.
Смотрящий здесь «присваивает» себе эмоции изображенных на фото людей, воскрешая из настоящего статичные и ушедшие в прошлое образы [Быстрова 2021, 211]. Если у Степановой метод вписывания личной биографической памяти в историю обнажается лишь при самом чтении романа, являющегося рефлексией над попыткой замысла и его реализацией, то Янечек изначально создает установку на создание «автобиографического мифа» путем проведения параллели с жизнями Таро и Капы: «Моя мать, которая была такой же упрямой кокеткой, как и Герда, могла бы быть ее сестрой. Мой отец, такой же мечтатель, как и Капа – его младшим братом» [Янечек 2021, 315]. Из этого возникает и другая проблема, которую можно озаглавить как соотношение частного и всеобщего: в романе личные воспоминания героев, формирующие облик Герды, становятся единственно возможными точками зрения на историю XX в., преломленную согласно специфике «смотрящих». Янечек не разделяет в своем нарративе память как деятельность субъекта и историю как знание, ориентированное на объективность. Однако нельзя сказать, что память в этом романе выступает как главенствующий конструкт (скорее, как структурообразующий), так как именно исторический фон делает героев такими, какими они должны быть согласно авторскому кругозору.
С первой страницы читателя встречает фотография улыбающейся пары (мужчины и женщины), пойманных фотообъективом во время затишья Гражданской войны в Испании. Зоркий авторский глаз, отталкиваясь от визуального свидетельства, стремится оживить прошлое, придав ему пространственно-временные границы. Примеряя на себя амплуа фотографа, как бы заново «переснимающего» влюбленных, автор до конца романа не отбросит эту роль: под его объективом окажутся не только Герда и ее окружение, но и политическая, социальная и культурная обстановка 1930–1960-х гг. Установив близкий контакт с читателем и обратившись к нему на «ты», этот авторский объектив не абсолютизирует свои полномочия. Он заранее дает понять, что между читателем и Гердой всегда будет стоять кто-то третий: в завязке романа это – оставшаяся за кадром женщина, наблюдающая за работой фотографов со стороны, а в остальных фрагментах текста – возлюбленные и подруга Герды.
Фотографический экфрасис в прологе, описывающий молодую пару Республиканцев, постепенно выходит за свои границы и разворачивается до фикционального контекста, привязанного к точке зрения женщины, сидящей рядом с парой. Так, потенциальный свидетель становится носителем некоторого визуального кругозора. Пользуясь документом, Янечек заставляет его ожить и разрастись до пространства и времени: нарратор лишь предугадывает, где на самом деле могли бы находиться влюбленные и всячески дорисовывает историческую обстановку. Экфрасис как бы «отзеркаливается» на самих «смотрящих» – Таро и Капу, которым удалось дважды, с разных ракурсов, поймать двойников себя самих. Словесное описание мужчины и женщины, выстраиваемое рассказчицей, прое- цируется на главных героев: «[Т]емноволосый мужчина и блондинка со стрижкой боб фотографируют блондинку со стрижкой боб и темноволосого мужчину, счастливо хохочущих. Блондинка снимает, наклонив голову так, что камера закрывает лоб. А у него настолько маленький фотоаппарат, что над ним видны даже его брови, такие же как у добровольца» [Янечек 2021, 13]. В результате, за счет участия некоего «третьего», образуется еще одна фотография, на этот раз фиктивная, и направленная на создание облика и внутреннего мира двух военных фоторепортеров.
Рассмотрев некоторые особенности фотоэкфрасиса как словесной формы репрезентации памяти и прошлого, мы можем выделить некоторые черты, которые появляются как в автофикциональном романе Степановой, так и в произведении Янечек, тяготеющему к non-fiction. В первую очередь, появляется смотрящий субъект, которым может быть как герой, так и нарратор (и всегда читатель как потенциальный реципиент), переводящий в словесный план восприятие и эмоции от объекта. Как правило, описательные детали разворачиваются согласно передвижению взгляда, точке зрения, которая либо фрагментарно описывает последовательность деталей, либо выходит за пределы фотографии и распространяется на фикциональный мир, тем самым лишая экфрасис маркированных границ. Фотографический экфрасис ориентирован на остановку времени (и нарративную ретардацию), а также на воскрешение ушедшей реальности через реконструкцию и репрезентацию визуальных образов. Подчеркнутая «телесность» фотографических изображений вместе с аффективностью воздействия снимков заменяет сакральное переживание, культивированное экфрасисами, которые делали видимыми в текстах различные изобразительные или архитектурные объекты.
Список литературы Фотографический экфрасис как форма памяти, или как создавать романы с помощью фотоснимков (на материале произведений "Герда Таро: двойная экспозиция" Х. Янечек и "Памяти памяти" М. Степановой)
- Брагинская Н.В. Экфрасис как тип текста (к проблеме структурной классификации) // Славянское и балканское языкознание. М.: Наука, 1977. С. 259-283.
- Быстрова Т.А. Фотография в романе Хелены Янечек "Девушка с лейкой" // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2021. № 4. С. 209-218.
- Геллер Л. Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе. Экфрасис в русской литературе // Сборник трудов Лозаннского симпозиума / Под ред. Л. Геллера. М.: Издательство "МиК", 2002. С. 4-16.
- Гримова О.А. Разрушение нарративной интриги в "Романсе" М. Степановой "Памяти памяти" // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2020. № 9/2. С. 136-147.
- Ерохина Т.И. Феномен памяти в массовой культуре: контрпамять и постпамять в отечественном кинематографе // Ярославский педагогический вестник. 2017. № 5. С. 255-271.
- Ингарден Р. Исследования по эстетике. М.: Издательство Иностранной Литературы, 1962. 560 с.
- Сонтаг С. О фотографии. М.: Ad Marginem, 2013. 275 с.
- Степанова М. Памяти памяти (романс). М.: Новое издательство, 2021. 678 с.
- Ходель Р. Экфрасис и "демодализация" высказывания // Экфрасис в русской литературе / Под ред. Л. Геллера. М.: Издательство "МиК", 2002. С. 25-30.
- Янечек Х. Герда Таро: двойная экспозиция. М.: ИД "Книжники", 2021. 350 с.