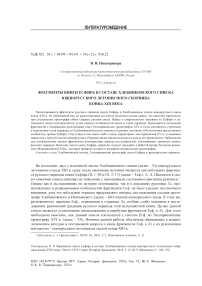Фрагменты книги Есфирь в составе Хлебниковского списка Южнорусского летописного сборника конца XIII века
Автор: Подопригора Василий Вячеславович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 9 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются фрагменты русского перевода книги Есфирь в Хлебниковском списке южнорусского свода конца XIII в. Из наблюдений над их расположением на листах рукописи сделан вывод, что внесение произошло при составлении протографа обоих главных списков свода. Вывод о современности отрывков из Есфири и летописного свода подтверждается путем анализа особенностей языка и стиля перевода. Проясняются отношения фрагментов с содержащим родственный текст Тихонравовским хронографом XVI в. Если составитель стремился к упрощению стиля перевода, то Хлебниковский список отразил его раннее состояние. Оба источника представляют особый вид правки Есфири. Отсутствие в нем каких-либо следов, характерных для справщиков XV в., и языковые параллели с третьей частью южнорусского сборника также свидетельствуют в пользу его архаичности. Наблюдения над особенностями данных фрагментов подтверждают выводы исследователей, доказывавших древность самого русского перевода. Внесение текста книги Есфирь, вероятно, следует связывать с работой автора Летописи волынских Мономаховичей XIII в., который проявлял интерес к всемирно-исторической хронографии.
Хлебниковский список, тихонравовский хронограф, книга есфирь в древнерусском переводе
Короткий адрес: https://sciup.org/147219668
IDR: 147219668 | УДК: 821.
Текст научной статьи Фрагменты книги Есфирь в составе Хлебниковского списка Южнорусского летописного сборника конца XIII века
На последних двух с половиной листах Хлебниковского списка (далее – Хл ) южнорусского летописного свода XIII в. сразу после окончания летописи читаются два небольших фрагмента русского перевода книги Есфирь (II. 1–20 и IX. 2–17) (далее – Есф.). А. А. Шахматов в своем описании списка связывал их появление с неисправным состоянием оригинала рукописи 1. Однако как в исследованиях по истории летописания, так и в описаниях рукописи Хл , происхождению и редакционным особенностям фрагментов Есф. не было уделено достаточного внимания, хотя эти небольшие отрывки представляют интерес для выяснения состава протографа Хлебниковского и Ипатьевского (далее – Ип ) списков южнорусского свода. К тому же, разновидность перевода Есф., отраженная в отрывках Хл , вообще слабо освещена в исследованиях рукописной традиции русского перевода этой ветхозаветной книги. Целью данной статьи являются установление происхождения и атрибуция фрагментов Есф. в Хл . Для этого необходимо выяснить, как данный список соотносится с текстом Есф. по Тихонравовскому хронографу XVI в. (далее – ТХ). Новизна данной работы обеспечена обращением к кодико-логическим методам и постановкой вопроса о связи фрагментов Есф. в Хл с их рукописным контекстом – южнорусским летописным сводом конца XIII в.
Следует заметить, что сам переписчик Хл не разграничил фрагменты между собой и продолжил начало 20 стиха II главы « И въ дни тыа Мордухай… » концовкой 2 стиха IX главы: « …человекъ некыи же не остоаше пред ними… » (385 об.) 2, разделив их только знаком запятой 3. Однако писец, видимо, ощутил в этом месте некоторую несогласованность, почему и употребил слово « некыи » (некто, некоторый) вместо правильного « никыи » (никто). Отсутствие каких-либо границ между отрывками двух стихов из разных глав свидетельствует о том, что в оригинале, с которым имел дело переписчик Хл , листы с текстом Есф. следовали один за другим, а большая часть текста книги оказалась утрачена. По-видимому, конец первого фрагмента заканчивался на обороте листа оригинала Хл , а на лицевой стороне следующего листа читалось окончание Есф. IX, 2.
Фрагменты из Есф., несомненно, переписаны тем же писцом, что и основная часть рукописи Хл , поскольку здесь сохраняются все характерные для нее особенности орфографии: последовательное употребление юсов больших в корнях и флексиях, нестяженные формы глаголов типа не остоаше , достоаше , постановка редуцированных после плавных согласных (« бяше оутвръдила с ним »).
Первый отрывок занимает в рукописи почти 66 строк, что, согласно нашим расчетам, соответствует ровно трем листам общего оригинала Ип-Хл [Подопригора, 2016. С. 10]. Наблюдения над кодикологическими особенностями Хл дают основания для предположения, что листы с текстом Есф. изначально входили в состав протографа Ип-Хл , а не оказались в Хл по какой-либо случайности, например, не были использованы в качестве форзацных листов при переплетении оригинала, с которого был писан Хл .
Кроме того, некоторые косвенные данные указывают, что эти же фрагменты Есф. могли читаться и в рукописи Ип (а значит, и в общем протографе обоих списков), но впоследствии оказались утрачены. Составители издания 1871 г. отмечали в описании списка: «В конце рукописи, на 612 стр. оставлен недописанным 1¼ столбец и затем вырезано шесть листов у корешка переплета, на одном из них видны даже полубуквы начала строк и прописное С, написанное киноварью» 4.
Вывод о присутствии Есф. в протографе южнорусского свода конца XIII в., полученный в ходе наблюдений над расположением отрывков на листах Хл , вполне согласуется с редакционными особенностями ее текста. Несмотря на то, что сама рукопись Хл датируется серединой XVI в. [Клосс, 2001. С. G.], фрагменты Есф. отражают более ранний тип текста, еще не прошедший через этап стилистической правки XV в.
Отрывки Есф. в Хл сближаются с Тихонравовским хронографом, известным в единственном списке XVI в. (РГБ, собр. Н. С. Тихонравова, № 704) 5. Редакция хронографа, отраженная в ТХ, В. М. Истриным была датирована XIV – началом XV в. [1912. С. 27]. Разновидность перевода, общая для Хл и ТХ, занимает особое положение в древнерусской рукописной традиции Есф. 6 и «сохраняет какие-то редкие чтения, которые кажутся первичными» [Алексеев, 2003. С. 188].
По наблюдениям А. А. Алексеева, в этой разновидности перевода Есф. отразились следы компетентной правки по еврейскому оригиналу. В ТХ это сказалось в приближении ряда собственных имен («Ахасворошь», «Гаманъ») к нормам более позднего еврейского произношения и устранении ряда темных мест перевода [Алексеев, 2003. С. 188]. Оба текста обнаруживают близость в передаче некоторых других имен («Охониею» вместо «Охонием» прочих списков, «Мордухаи») 7 и одинаковым восполнением Есф. II. 12 8, что отличает их как от старших списков конца XIV в. 9, так и от группы списков XV–XVII вв., где отражен текст, представленный в Геннадиевской Библии.
Большой интерес представляют чтения, отличающие Есф. в Хл. и ТХ от всех трех установленных Н. А. Мещерским групп списков [1995. C. 280]. Например, фрагменты Хл дают исправное чтение в IX. 13 10, где приводится прошение Есфири к царю Ахазверосу о повешении сыновей Амана и употреблена вполне корректная в данном контексте форма будущего времени: «…якоже закон днешнии 10 сыновъ Амоновь повесят на древе» [The Old Rus’ Kievan and Galician-Volhynian Chronicles, 1990. P. 391]. В прочих списках, причем как ранних, так и входящих в группы Геннадиевской Библии и Академического хронографа, здесь читается неуместная форма аориста «повесиша». Другой интересный пример – IX. 16, где перевод дополняется вставкой: «и останки иудей, иже по землям царя събрашася и стоаху на покоих своих, и опо-чиша от врагъ своих » [Ibid. P. 391–392]. Выделенные курсивом строки отсутствуют в списках всех трех групп, установленных Мещерским. Интерполяция в этом стихе, возможно, отражает правку не по масоретскому тексту, а по Септуагинте: «καὶ ἀνεπαύσαντο ἀπὸ τῶν πολεμίων» [The Old Testament in Greek..., 1896. P. 777]. Судя по этим чтениям, данная разновидность могла возникнуть вследствие восполнения лакун и неточностей перевода с еврейского. Причем эта обработка не имела пересечений с правкой XV в., отразившейся в списках Академического хронографа 11.
На независимость отрывков Есф. в Хл от текста ТХ указывает, во-первых, несовпадение границ фрагментов книги в этих двух списках. В Хл , как было отмечено выше, объем отрывков ограничивается II. 2–20 и IX. 2–17, что, как мы доказываем, объясняется утратой нескольких листов с текстом Есф. в общем протографе Ип-Хл . При составлении ТХ было принято другое разбиение: после VI. 13 Есф. прерывается отрывками из книг Иеремии, IV Царств, Даниила, «Хроники» Георгия Амартола и апокрифического «Сказания о Данииле и Авимелехе», а затем продолжается уже с середины VI. 13 вплоть до X. 3.
Во-вторых, текст Есф. в ТХ несет явные следы вторичности по сравнению с Хл , которые, вероятно, следует связывать с работой составителя ТХ. Обработка текста при включении книги в хронограф, прежде всего, коснулась ее языка и стиля. Сохраняемым в Хл архаичным формам в ТХ соответствуют случаи, отражающие более поздние нормы. Например, эпитет « до-бровъзорна » заменяется в ТХ на « доброзрачна » в II. 3 и на « красна зело » в II. 7, « улюбляше » в II. 4 – на « полюбит ».
В целях упрощения довольно трудного языка перевода, в ТХ устранялись конструкции, передающие грамматические особенности еврейского подлинника. Упрощению подверглись параллелизмы (II. 18), удалены повторы (II. 3; IX. 14). Например, в IX. 4 «ибо мужь Мордухаи хо-жаше великь» передано упрощенно: «ибо муж Мордухаи великъ» [Анисимова, 2015. С. 123]. Иногда правка Есф. в ТХ проводилась не вполне корректно. Так, в II. 10 исправному чтению «абы не поведала» (по Хл) в ТХ соответствует «абы не повелася» [Там же. С. 105]. В IX. 16 вместо неясного «и в полон не поведоша рук своих» (Хл) в ТХ читается «и в полонъ не побе-диша рукъ своих» [Там же. С. 124]. Последнее чтение, однако, вполне объяснимо ошибкой переписчика самой рукописи ТХ, поскольку в IX. 9 приводится исправная форма «не поде- ша рукъ своих». В других случаях правка явно отражает работу составителя ТХ 12. Так, в ТХ было довольно грубо устранено стоящее не на месте сказуемое в форме имперфекта в IX. 17 13, которое, по-видимому, восходит к архетипу всех известных списков перевода. В итоге начало стиха, с одной стороны, оказалось ближе к масоретскому тексту, но с другой – утратило осмысленность, поскольку было убрано внесенное в архетип перевода упоминание о появлении у иудеев обычая поститься в 13 день месяца адара (так называемый пост Есфири, предшествующий празднику Пурим). Попытки прояснения смысла перевода Есф., предпринятые составителем ТХ, не всегда удачны, поэтому примеры большей по сравнению с прочими списками исправности перевода Есф. связаны, скорее, не с работой составителя самого хронографа, а с тем протографом Есф., который был обработан при включении в ТХ.
Текст Есф. в ТХ значительно облегчен для понимания, из него устранены плеонастические конструкции, передающие особенности еврейского подлинника, подверглись поновлению лексика и грамматика: нечленные формы прилагательных последовательно заменены членными, устраняется имперфект. Сокращение нескольких стихов (II. 9, IX. 16) и удаление повторов свидетельствует о том, что текст книги специально готовился для включения в компиляцию.
Итак, текст, отраженный в отрывках Есф. в Хл , не может быть возведен напрямую к ТХ или его протографу, возникшему, по мнению В. М. Истрина, в XIV–XV вв., а отражает более ранний этап бытования этой разновидности перевода. Вероятнее независимое восхождение Есф. в обоих источниках к общему протографу, который в Хл оказался передан в более исправном виде. Таким образом, на основе кодикологических особенностей Хл и языковых данных фрагментов перевода Есф. мы вполне вправе относить их появление в протографе южнорусского летописного сборника к самому времени его создания – концу XIII в. Вмешательство в текст переписчика Хл , по всей видимости, ограничилось только архаизацией орфографии и внесением нескольких явно ошибочных чтений 14.
К сожалению, фрагментарность Есф. в Хл не позволяет сделать прочных текстологических выводов о месте данной разновидности в традиции древнерусского перевода книги. Однако она должна обязательно учитываться при ее исследовании. Доказываемое нами присутствие Есф. в протографе Ип-Хл – летописном своде конца XIII в. может опровергнуть датировки архетипа древнерусского перевода, предложенные его новейшими публикаторами: Г. Г. Лантом и М. Таубе (1350 г.) и И. Люсен (1380–1390 гг.). Тем самым получают подтверждение выводы А. И. Соболевского и Н. А. Мещерского, доказывавших древность перевода книги.
Что касается самого текста Есф. в Хл , то здесь мы обнаруживаем сохранение тех фонетических, морфологических и лексических особенностей русского перевода с древнееврейского, которые характеризуют именно старшие списки, что также свидетельствует об архаичности фрагментов Хл . В своем исследовании Н. А. Мещерский составил репрезентативный перечень восточнославянизмов, сохраняемых в старших списках Есф., и тем самым доказывал появление архетипа перевода уже в Киевскую эпоху [1995. С. 283].
Несмотря на довольно позднее происхождение самой рукописи Хл и архаизирующую манеру ее переписчика, мы наблюдаем в ней сохранение тех самых восточнославянских языковых особенностей. Здесь последовательно используются такие полногласные формы, как « волости », « полоненъ », « полони » и т. д. Также часты восточнославянизмы с твердыми согласными основы типа « женьскых », « слугы », « пакы ». Формы аориста 3 л. ед. ч. употребляются без наращения «тъ»: « събра », « възложи », « сътвори ». Преобладает русское «ж», происходящее из общеславянского «dj»: « не прихожаше », «хожаше » .
Русизмы, по мнению А. А. Алексеева, «говорят о древности перевода, если рассматривать его в перспективе восточнославянской письменности, ибо в 15 в. здешние писцы изгоняли лингвистические приметы восточнославянской речи, предпочитая им нормализованные цер- ковнославянские формы» [1993. P. 57]. Показательно также полное отсутствие в Есф. II. 6 в Хл характерной приметы списков XV–XVI вв. 15 – замены слов «полон», «полонити» соответствующими неполногласными формами [Мещерский, 1995. С. 281, 290]. Итак, несмотря на свое стремление к архаизации графики, переписчик Хл не стал сглаживать восточнославянских черт в лексике и орфографии древнего перевода.
Еще А. В. Горский и К. И. Невоструев предположили появление перевода Есфири на Западе Руси 16. В статье А. А. Алексеева были указаны дополнительные соответствия между лексикой перевода, галицко-волынских грамот XV в. и западнорусского сборника того же времени [1993. P. 58]. Лексические и фразеологические параллели обнаруживаются и при сравнении перевода Есф. с языком более раннего памятника литературы Юго-Западной Руси – Летописи волынских Мономаховичей XIII в., т. е. третьей части южнорусского летописного сборника. Хотя параллелей не так много, они вполне заслуживают внимания. Например, выражению в похвале Роману Мстиславичу в летописи («Одолевша всем поганскым языком») соответствует фраза с похожим управлением глагола «одолети»: «одолеша иудеи всем врагом своим» (Есф., IX. 5). Редкий оборот «власти княжения своего», встречающийся в летописи 17, находит соответствие в Есф. II. 3: «волости царства своего». Среди лексических соответствий можно указать наречие « дне » (в значении «внутри») в летописи и прилагательное « днешний » («внутренний») в Есф. IX. 13, а также « добыток » в значении «имущество» 18.
К числу показательных параллелей также можно отнести довольно редкую лексему « вражь-ба » в значении «жребий». В древнерусском переводе Есф. (III. 12) так передано персидское заимствование «пур» (мн. ч. – «пурим»). Во всех старших списках это чтение одинаково переосмыслено: «възверже вражду и жребии предъ Амономъ от дни к дни, от месяца к месяцу» 19. В летописи в начале рассказа о смуте в Литве приводится обращение Миндовга, отправившего своих племянников Тевтивила и Едивида в поход на Смоленск: «Што кто приемлетъ – събе одръжит върожбою», т. е. «Кто что возьмет – пусть получит себе по жребию» [The Old Rus’ Kievan and Galician-Volhynian Chronicles, 1990. P. 344] 20. А. А. Алексеевым сходная параллель была указана также в одном западнорусском сборнике XV в.: « ворожу киноувши », т. е. «кинули жребий» [1993. P. 58]. Указанные языковые и стилистические параллели между Летописью волынских Мономаховичей XIII в. и Есф. также свидетельствуют о древности как фрагментов Хл , так и самого русского перевода.
Включение Есф. в состав общего протографа Ип-Хл , вероятно, следует связывать с автором Летописи волынских Мономаховичей, интересовавшимся всемирно-исторической хронографией. Книга Есфирь, естественно, не имела на Руси богослужебного употребления и помещалась в ряду исторических библейских книг, что и отразилось в ее старших списках 21.
Н. А. Мещерский связывал появление русского перевода с составлением хронографических сводов [1995. С. 296]. На это могут указывать также внесенные переводчиком соответствия еврейских и греческих названий месяцев, которые отличают русский перевод как от масорет-ского текста, так и от Септуагинты.
Таким образом, учет особенностей расположения отрывков из Есф. на листах рукописи Хл и анализ ее языка и стиля позволяют относить их появление в составе протографа южнорусского летописного сборника напрямую ко времени его составления – концу XIII в. Данная разновидность текста Есф. сохранила архаичные стилистические особенности, представляя собой более ранний этап, чем текст Тихонравовского хронографа, испытавший вторичную «русификацию». Не отразился на его облике и процесс архаизации перевода с заменой русизмов церковнославянизмами, проходивший в XV в. Присутствие текста Есф. в Хл следует рассматривать в одном ряду с намерением автора третьей части южнорусского сборника, Летописи волынских Мономаховичей, привести в конце своего труда расчет времени изложенных событий («вся же лета спишем, росчетше в задняя») с обращением к стилистическим параллелям из всемирно-исторической литературы и знакомством с трудами Евсевия Кесарийского – как пример его заинтересованности во всемирно-исторической хронографии и сознательной ориентации на такой тип исторической литературы при создании своего сочинения.
Список литературы Фрагменты книги Есфирь в составе Хлебниковского списка Южнорусского летописного сборника конца XIII века
- Алексеев А. А. Еще раз о книге Есфирь//Русский язык в научном освещении. 2003. № 1 (5). С. 185-214.
- Алексеев А. А. Русско-еврейские литературные связи до XV века//Jews and Slavs. 1993.Vol. 1. P. 44-75.
- Горский А. В., Невоструев К. И. Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. Отдел первый. Священное Писание. М., 1855.
- Истрин В. М. Особый вид Еллинского летописца из собрания Тихонравова//ИОРЯС. 1912. Т. 17, кн. 3. С. 1-30.
- Клосс Б. М. Предисловие к изданию 1998 г.//ПСРЛ. М.: Языки славянской культуры, 2001. Т. 2: Ипатьевская летопись.
- С. E-N. Летопись по Ипатскому списку. Издание Археографической комиссии. СПб., 1871.
- Мещерский Н. А. К вопросу о составе и источниках Академического хронографа//Летописи и хроники. Сб. ст., 1973. М.: Наука, 1974. С. 212-219.
- Мещерский Н. А. К вопросу об изучении переводной письменности Киевского периода//Мещерский Н. А. Избр. статьи. СПб.: Яз. центр. филол. фак. СПбГУ, 1995. С. 271-299.
- Подопригора В. В. Значение Хлебниковского списка для установления формата протографа южнорусского летописного сборника конца XIII в.//Материалы 54-й Междунар. науч. студ. конф. МНСК-2016: Литературоведение. Новосибирск, 2016. С. 9-10.
- Рождественский И. Г. Книга Есфирь в текстах еврейском масоретском, греческом, древнем латинском и славянском. СПб., 1885. 218 c.
- Срезневский И. И. Древние памятники русского письма и языка (X-XIV веков). Общее повременное обозрение. СПб., 1882. 202 c.
- Lunt H. G., Taube M. The Slavonic Book of Esther: Translation from Hebrew or Evidence for a Lost Greek Text?//The Harvard Theological Review. Jul., 1994. Vol. 87. No. 3 P. 347-362.