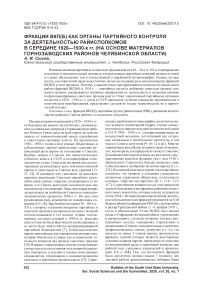Фракции ВКП(б) как органы партийного контроля за деятельностью райисполкомов в середине 1920-1930-х гг. (на основе материалов горнозаводских районов Челябинской области)
Бесплатный доступ
Взаимоотношения партийных и советских органов власти в 20-30-е гг. XX в. и превращение последних в исполнительный механизм для реализации партийных решений являются одной из самых обсуждаемых тем в отечественной и зарубежной историографии. Однако, на наш взгляд, в исторической науке недостаточно полно исследована роль исполкомовских фракций ВКП(б) в этом процессе. Поэтому в данной статье предпринимается попытка изучения опыта работы фракций ВКП(б) (с 1934 г. - партийных групп) в выборных советских органах «низового уровня», раскрываются основные направления их деятельности и механизм влияния на функционирование советских органов власти. Опыт, накопленный партийными органами на местах в 1920-1930-е гг., когда в СССР проходили глубокие социально-экономические и политические преобразования, представляет сегодня не только теоретический, но и практический интерес.
Фракция вкп(б), партийная группа, райисполком (рик), районный комитет партии (райком), советы рабочих и солдатских депутатов
Короткий адрес: https://sciup.org/147233380
IDR: 147233380 | УДК: 94(470.5) | DOI: 10.14529/ssh200115
Текст краткого сообщения Фракции ВКП(б) как органы партийного контроля за деятельностью райисполкомов в середине 1920-1930-х гг. (на основе материалов горнозаводских районов Челябинской области)
Механизм принятия решений в 1920—1930-х гг. по большинству важных политических, экономических и социальных вопросов в горнозаводских районах Южного Урала, как и по всей стране, во многом зависел от взаимоотношений между партийными и советскими органами власти. На протяжении 1920—1930-х годов в силу разных объективных и субъективных причин происходило усиление руководящей роли партии по отношению к Советам. Вообще, вопрос о Советах как самостоятельных субъектах власти в СССР в историографии стоит достаточно остро. Советские историки всегда подчеркивали руководящую роль коммунистической партии в деятельности Советов всех уровней [13; 21; 34]. В основном они указывали на массовую практику реализации Советами партийных решений в самых разных отраслях, подчеркивая в то же время, что Советы выступали исключительно как исполнители этих решений. Лишь некоторые авторы делали акцент на особой роли Советов в социальноэкономических процессах 1930-х гг. Но при этом руководящая роль компартии не подвергалась сомнению [35; 36]. Зарубежные историки 50—80-х гг. XX в. к вопросу о взаимоотношениях партийных и советских органов в основном подходили с позиций господствовавшей в тот момент теории тоталитаризма, согласно которой к 1930-м гг. реальная власть Советов была фактически ликвидирована, а их место было занято жёстко централизированной партийной бюрократией [7]. Коммунистическая партия трактовалась как главная политическая сила, которая обеспечила условия для установления тотального контроля над жизнью советских граждан [39]. В период «перестройки» многие отечественные ученые в результате влияния тоталитарной концепции повторили суждения и оценки иностранных специалистов, относящиеся к взаимоотношениям советских и партийных органов власти [15]. Совре- менная зарубежная историография, несмотря на выход за рамки тоталитарной теории, считает коммунистическую партию ведущей политической силой в СССР 1920—1930-х гг., которая превратилась во всевластный механизм, поглотивший все остальные социальные и политические институты, в том числе и Советы депутатов [9; 10; 12 и др.]. Многие современные российские историки также отмечают, что, несмотря на декларируемую «власть Советов», большевистская партия начала осуществлять государственные властные функции уже с лета 1918 г. Деятельность Советов все больше сводилась лишь к обсуждению и одобрению политики партии [11, с. 223]. Подлинной властью в стране стали партийные комитеты, что привело к созданию уникального механизма управления обществом, получившего название «партия-государство» [8, с. 114—115, 117]. Существенное влияние на ход этих процессов оказали большевистские фракции районных исполнительных комитетов, которые начали создаваться летом 1918 г. История широкомасштабной деятельности большевистских фракций начинается на VIII Всероссийской конференции РКП (б), состоявшейся в разгар Гражданской войны 2—4 декабря 1919 г., когда в обновленный Устав РКП(б) был внесен раздел «О фракциях во внепартийных учреждениях и организациях», согласно которому «во всех внепартийных съездах, совещаниях, учреждениях и организациях (Советах, исполнительных комитетах, профессиональных союзах, коммунах и т. п.), где имеется не менее 3 членов партии, организуются фракции, задачей которых является всестороннее усиление влияния партии, проведение ее политики во внепартийной среде и партийный контроль над работой всех указанных учреждений и организаций» [19, с. 468]. Там, где численность фракций была достаточно велика (свыше 7 человек), для текущей работы рекомендовалось избирать бюро
[28, л. 89]. Фракции целиком были подчинены соответствующим партийным организациям. Хотя утверждалось, что в вопросах внутренней жизни и текущей работы фракция была автономной, однако партийный комитет имел право ввести в состав фракции и вывести из нее любого члена. К тому же, все вопросы имеющие политическое значение и подлежащие обсуждению фракции, должны были обсуждаться только в присутствии представителей парткома. По каждому решаемому во внепартийной организации вопросу члены фракции обязаны были голосовать единогласно. Нарушившие это правило подвергались дисциплинарным мерам со стороны партийного комитета [19, с. 469]. Таким образом, автономность партийных фракций носила формальный характер, так как они изначально ставились в зависимое положение от партийных комитетов и во всем руководствовались решениями руководящих партийных органов. Это же подтверждает запрет на установление прямых контактов между собой фракциям внепартийных органов, связываться друг с другом им разрешалось только при посредничестве соответствующего партийного комитета [20, с. 137]. Партийные фракции были созданы на всех уровнях Советов (в областных, губернских, уездных, волостных, районных и т. д.). Появляются партийные фракции и в исполкомах советских органов власти Южного Урала [28, л. 89]. В результате, партийные комитеты получили эффективный инструмент, своеобразное «большевистское лобби», при помощи которого можно было влиять на деятельность советских органов власти. Фактически решения VIII Всероссийской конференции РКП(б) «поставили крест» на самостоятельности Советов в дальнейшей политической жизни страны.
Партийные фракции в советских органах власти просуществовали до 1934 г., когда в соответствии с решениями XVII съезда ВКП(б) (26 января — 10 февраля 1934 г.) вместо фракций создавались партийные группы с теми же функциями [20, с. 785—786]. Несмотря на то, что партийные фракции (с 1934 г. — партийные группы) играли значительную роль во взаимоотношениях советских и партийных органов власти на всех уровнях, вопрос об их деятельности на первичном уровне власти освещен в историографии недостаточно. Особую актуальность данному историческому сюжету придает и тот факт, что в жизни некоторых стран (в том числе и нашей) деятельность партийных фракций вновь становится неотъемлемой частью функционирования государства. Поэтому, всестороннее изучение опыта работы фракций ВКП(б) (партийных групп) в первичных выборных советских органах в условиях проведения мобилизационных мероприятий середины 20—30-х гг. XX в. является сейчас особенно важным. Учитывая эти обстоятельства, в данной статье ставится цель — выяснить каковы были основные направления деятельности партийных фракций в исполкомах и какое реальное влияние они оказывали на функционирование советских органов власти. Для достижения поставленной цели были использованы материалы нескольких районов современной Челябинской области, относящихся к горнозаводской зоне. В работе над статьей были задействованы следующие источники: нормативноправовые документы 1920—1930-х гг. (Уставы ВКП(б), постановления центральных органов коммунистической партии), материалы региональных и районных архивов (ОГАЧО, ААКИМР), а также ряд уже ранее опубликованных документов и материалов, характеризующих работу партийных и советских органов в исследуемый период [19; 20].
Формально партийные комитеты не имели права вмешиваться в деятельность советских органов власти напрямую. Поэтому, в качестве «агентов влияния» они использовали фракции ВКП(б) в исполкомах. Цепочка такого взаимодействия выглядела следующим образом: партком принимал какое-либо решение, в котором партийной фракции исполкома предписывалось провести данное решение в жизнь [24, л. 15]. Фракция рассматривала на своем заседании (или на заседании бюро фракции, если она была достаточно многочисленная) эти вопросы и принимала соответствующие постановления, оформленные протоколом заседания фракции. Далее решения фракции установленным порядком выносились на заседания райисполкома или его президиума и после их обсуждения принимались в виде постановления по каждому вопросу [28, л. 89]. Таким образом, поставленные парткомом вопросы после прохождения установленной процедуры реализовывались в решения органов государственной власти и приобретали законную силу.
В архивных материалах, относящихся к рассматриваемому периоду (середина 20—30-х гг. XX в.) и привлеченных к работе над данной статьей, нет каких-либо прямых свидетельств недовольства со стороны райисполкомов горнозаводской зоны деятельностью большевистских фракций, что объясняется проведением жесткой кадровой работы, налаженной в предшествующий период, когда кандидатами в депутаты Советов можно было стать только с одобрения парткомов. К тому же к началу 30-х гг. большинство членов райисполкомов являлись коммунистами, что само собой практически полностью исключает какие-либо «оппозиционные» настроения [6, л. 9; 22, л. 23—23].
Как показывает анализ многочисленных архивных документов, среди направлений деятельности партийных фракций в райисполкомах первостепенное значение, безусловно, имели кадровые вопросы. Причем их решение происходило как в форме рекомендации, так и в форме прямого назначения и утверждения. В архивных материалах 20—30-х гг. XX в., относящихся к горнозаводской зоне Челябинской области, большое количество примеров участия фракций ВКП(б) райисполкомов (партийных групп, партийных организаций) в решении кадровых вопросов. Так в декабре 1925 г. Златоустовкий Окружной комитет ВКП(б) в связи с перевыборами Советов дал указание партийным фракциям всех РИКов округа срочно предоставить списки кандидатур председателей и заведующих финансовыми отделами райисполкомов [12, 14, 15; 31, л. 8]. Впоследствии именно эти люди заняли указанные должности. Достаточно часто встречаются случаи, когда партийные фракции брали на себя полномочия по решению кадровых вопросов, относящихся к компетенции пленумов РИКа. Например, 13 ноября 1933 г. фракция ВКП(б) Катавского райисполкома Уральской области своим постановлением ввела в состав Президиума РИКа В. И. Салмина и настояла на утверждении его в должности Председателя РИКа [2, л. 112]. Аналогично фракция ВКП(б) этого райисполкома поступила и в феврале 1936 г., когда потребовалось назначить на должность заведующего районным финансовым отделом А.Ф. Комлева [3, л. 243]. Подобно этому, с участием партийной фракции в 1925 г. решался вопрос об утверждении Санникова на должность председателя Миньярского РИКа [30, л. 1, 2]. Особым видом кадровой работы, в которой принимали участие партийные фракции райисполкомов горнозаводской зоны, было вовлечение в партийные ряды трудящихся, особенно рабочих «от станка» и крестьян «от сохи» [23, л. 52—54]. Таким образом, фракции ВКП(б) играли активную роль в решении кадровых вопросов в райисполкомах горнозаводской зоны Челябинской области в 1920—1930-е гг. Это было очень важно в условиях развернувшихся по всей стране и на Южном Урале модернизационных мероприятий, в которых советским органам власти предстояло сыграть значительную роль. Именно на районных органах власти лежала ответственность по практическому воплощению планов индустриализации, коллективизации и «культурной революции».
Не менее важным было идеологическое направление деятельности, для реализации которого активно применялись пропагандистские методы, нацеленные на распространение коммунистических убеждений. В связи с этим партийным фракциям РИКов предписывалось внимательно следить за организацией культурных и образовательных мероприятий [25, л. 7 — 7 об., 53; 30, л. 124]. Аналогичные цели преследовало руководство деятельностью районных комсомольских организаций. Для регулирования комсомольской работы и направления ее в нужное русло партийные организации исполкомов периодически проводили собрания, посвященные этим проблемам, как это было, например, в Катав-Ивановске 19 января 1937 г. Руководителю районного комитета комсомола Первухину были сделаны замечания по поводу слабого идейного руководства организацией, отсутствия плана работы, задержки выплаты членских взносов некоторыми комсомольцами, недостаточного внимания к массовой политработе и др. Собранием были установлены жесткие сроки для исправления ситуации [5, л. 4—5]. «Решительному проведению генеральной линии партии» способствовала также организация фракциями ВКП(б) партийной учебы среди должностных лиц советского аппарата [5, л. 17—18], а также налаживание среди населения работы по изучению произведений И. В. Сталина, советских Конституций, основополагающих партийных и государственных документов. Для осуществления этой важной политической работы обычно назначались руководители кружков из числа ответственных работников партгруппы райисполкомов, как, например, Трусов и Бахарев в Катав-Ивановске [4, л. 27 — 27 об.].
Одной из важнейших задач, поставленных перед фракциями (партийными группами) ВКП(б), было осуществление контроля за деятельностью внепартийных организаций, в том числе за Советами депутатов. В русле этой политики фракции координировали мероприятия по организации выборов в Советы: им вменялось в обязанность не допускать попадания в Советы классово чуждых элементов, бороться с бюрократизмом и извращением партийной линии в работе органов власти, вовлекать в работу Советов батрачество и бедноту и добиваться усиления пролетарского влияния в советских (особенно сельских) органах власти [26, л. 33—34]. Причем, в случаях, если выборы проходили без активного участия бедноты, фракции райисполкомов имели право отменить результаты выборов и организовать перевыборы [33, л. 118]. В таких действиях со стороны фракций райисполкомов партийные комитеты были очень заинтересованы, так как в условиях провозглашенного в середине 1920-х гг. «оживления Советов», декларировалось, что «недопустимо ни командование, ни навязывание кандидатов в Советы» [20, с. 235] и потому фракции оказались единственным легальным механизмом внутри Советов, который способствовал сохранению над ними контроля.
Тематика вопросов, обсуждаемых на заседаниях партийных фракций, менялась в соответствии с задачами текущего момента и теми установками, которые давались парткомами. Фракциям РИКа, как наиболее организованным группам райисполкомов, поручалось решать самые разнообразные вопросы не только политического, но и социальноэкономического и даже бытового характера: реорганизация мелких предприятий на территориях районов, порядок приема и увольнения служащих [29, л. 1, 21], контроль за сбором налогов с местного населения (в том числе платежи с крестьянских хозяйств), учет страховой стоимости частных и государственных строений, организация военного стола при райисполкомах, составление планов строительства различных объектов, дорог, подбор квалифицированной рабочей силы и многое другое [25, л. 18, 25, 27, 53].
Фракции не стояли в стороне в деле организации модернизационных мероприятий мобилизационного характера в период индустриализации, коллективизации и «раскулачивания». Многие представители партийных фракций райисполкомов выезжали в деревни в качестве инструкторов, уполномоченных при проведении «раскулачивания» и организации колхозов. Так, в марте 1931 г. на основании постановления фракции ВКП (б) Катавского райисполкома Уральской области для проведения дополнительного «раскулачивания» в села района были отправлены члены большевистской фракции: в Карауловку — Горин, Тюлюк — Микерин, Минку — Алякин, Орловку — Дядиков, Аратское — И. В. Попов, Серпиевку — Гурьянов, Бедярыш — Волков, Меседу — Полковников, Екатериновку — Вернигоров, Тюбеляс — Виноградов [1, л. 3 — 3 об.]. На фракции ВКП(б) возлагалась ответственность за проработку с непартийными членами исполкомов и представителями деревенских активов документов о порядке проведения данных мероприятий [33, л. 114—117], а также организация работы по исправлению перегибов в колхозном строительстве [33, л. 121].
Мнение партийных фракций райисполкомов как правило учитывалось при осуществлении политики в отношении религии, особенно если это касалось закрытия церквей. Например, прежде, чем отправить на утверждение областного руководства постановление о закрытии церквей в Златоусте и Симском заводе в мае 1930 г., руководство Златоустовского Окрисполкома выясняло отношение местных партийных фракций к этому вопросу [26, л. 53, 252—253].
В центре внимания партийных фракций (групп) изначально стояли вопросы партийной дисциплины и поддержания авторитета сотрудников райисполкомов. Наиболее частыми нарушениями являлись пьянство, моральное разложение, грубость, участие в религиозных мероприятиях, неуплата членских взносов, пассивность в проведении партийной работы, игнорирование партсобраний, должностные нарушения (растраты, связи с классово чуждыми элементами и т. д.). Партийные фракции регулярно проводили заседания по профилактике этих негативных явлений: нарушители получали выговоры, снимались с должностей, исключались из партии. Иногда их заставляли приносить извинения за свое поведение: так ответственные сотрудники Катав-ского райисполкома Н. В. Попов (заведующий районной сберкассой) и А. Ф. Комлев (заведующий РайФО) возвращаясь в зимой 1935 г. из служебной командировки, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроили дебош в вагоне поезда и оскорбили обслуживающий персонал вагона. За этот проступок они получили строгий выговор на заседании партийной группы райисполкома и их обязали ехать на станцию Вязовую для того, чтобы принести извинения железнодорожникам [5, л. 6 — 6 об.].
Нарушения дисциплины были одними из основных вопросов и при проведении чисток советского аппарата в 1920—1930-х гг. В историографии чаще упоминаются чистки, которым подвергался партийный аппарат, однако подобная участь не обошла стороной и советские органы власти. Одна из самых масштабных чисток советского аппарата горнозаводской зоны, входившей тогда в состав Златоустовского округа Уральской области, проходила в феврале-марте 1930 г. и затронула низовые советские органы власти (районные и сельские). Был разработан календарный план проведения чистки, в котором указывалось, что решение значительной части организационных вопросов возлагается на партийные фракции РИКов (мобилизация общественности, выпуск стенгазет, составление списков сотрудников, сбор материалов (в том числе компрометирующих) на сотрудников учреждений и др.) [26, л. 54—55; 27, л. 91 — 91 об.]. В ходе основного этапа чистки члены фракций участвовали в публичном рассмотрении дел проверяемых и вместе с членами комиссии и представителями трудящихся задавали им различные вопросы. Чистка советского аппарата при непременном участии в этом партий- ных фракций райисполкомов была проведена во всех районах горнозаводской зоны Южного Урала. Такая активная роль партийных фракций в данном мероприятии не является характерной только для этого субрегиона нынешней Челябинской области. Подобным образом фракции райисполкомов действовали и в других регионах РСФСР [37].
Значительное место в работе партийных групп райисполкомов в 1936—1938 гг. занимают вопросы, связанные с выявлением и разоблачением «врагов народа». В обстановке нагнетания напряженности и подозрительности «бывшие товарищи» начинают «разоблачать» друг друга, припоминая имевшие место «уклоны», происхождение, поведение в период господства белогвардейцев, родственные связи с классово враждебными элементами, контакты с уже разоблаченными «врагами народа» [6, л. 16—18]. Иногда решение партийной организации райисполкома фактически решало судьбу конкретных людей: упоминавшийся выше А. Ф. Комлев по постановлению партийного собрания Катавского райисполкома от 11 ноября 1937 г. был снят с работы, исключен из ВКП(б) и отдан в руки следственных органов. Его обвиняли в связях с врагами народа (уже арестованными к тому времени партийными и советскими работниками, с которыми он долгое время вместе работал в райисполкоме), проведении политики, направленной на дискредитацию Советской власти, многочисленных злоупотреблениях, пьянстве и грубости [6, л. 61]. Разоблачение «врагов народа» находилось под особым контролем вышестоящих органов, поэтому парторганизации РИКов составляли по этому поводу специальные отчеты, в которых указывалось сколько выявлено троцкистов, двурушников и других «врагов народа». Так только в одном Катавском районе горнозаводской зоны Челябинской области в парторганизации РИКа с апреля 1937 по апрель 1938 гг. выявлено девять «врагов народа, пособников и не оправдавших доверие партии» [6, л. 8]. Безусловно, в тех условиях райисполкомы не только на Южном Урале, но и по всей стране, вынуждены были одобрять и поддерживать подобные действия своих партийных групп, которые зачастую выступали инициаторами проведения репрессий против деятелей советских органов власти [14].
В 20—30-е гг. XX в. были заложены основные принципы политического управления и организационной структуры власти, характерные для всей дальнейшей истории Советского государства. Главной особенностью этой системы было параллельное развитие двух компонентов — советских органов власти и комитетов коммунистической партии. Причем, несмотря на декларируемый во всех официальных документах приоритет советских органов государственной власти, практически на всем протяжении 1920-х гг. сохранялась устойчивая тенденция к установлению доминирования партийных органов над советскими. Эта тенденция привела в 1930-х гг. к становлению на Южном Урале партийной власти в качестве основной политической силы. Аналогичным образом ситуация развивалась и в других регионах РСФСР: в Сибири [38], Смоленской [8], Свердловской [18], Пермской областях [17]. Важное место в этом процессе занимает деятель- ность фракций ВКП(б) в советских органах власти, благодаря которым Советы депутатов находились под пристальным контролем партийных комитетов [16]. Фактически фракции ВКП(б) выполняли в исполкомах роль «дирижерской палочки», которую крепко держали в своих руках партийные комитеты. Причем такая система отношений пронизывала всю вертикаль власти — начиная от республиканской ступени и заканчивая низовыми структурами. Особенно ярко это проявлялось, когда у вышестоящих органов не было уверенности в безоговорочной поддержке исполкомами необходимого решения по какому-либо вопросу или требовалось быстрое и оперативное решение той или иной проблемы. В этом случае вышестоящие органы напрямую обращались к партийным фракциям исполкомов, как это, например, было в период коллективизации в горнозаводской зоне, когда Златоустовский Окрисполком направлял директивы о проведении раскулачивания не только Президиумам РИКов, но и одновременно фракциям исполкомов [32, л. 1—2]. Деятельность фракций ВКП(б) в исполкомах способствовала формированию системы «партия — государство», при которой партия брала на себя выполнение (или обязательный контроль за выполнением) государственных функций. Среди важнейших направлений деятельности партийных фракций в исполкомах нужно назвать:
-
1) решение кадровых вопросов;
-
2) распространение коммунистической идеологии;
-
3) контроль за формированием и деятельностью Советов депутатов;
-
4) организация хозяйственной деятельности и мобилизационных мероприятий;
-
5) поддержание дисциплины среди сотрудников исполкомов.
Перечень мероприятий, ответственность за которые возлагалась на фракции ВКП(б), говорит о том, что они порой осуществляли большую часть организационной работы, которая лежала на райисполкомах. Следует также отметить, что деятельность партийных групп в райисполкомах резко активизировалась в середине 1930-х гг. в связи с началом политических репрессий, в осуществлении которых они сыграли заметную роль.
Список литературы Фракции ВКП(б) как органы партийного контроля за деятельностью райисполкомов в середине 1920-1930-х гг. (на основе материалов горнозаводских районов Челябинской области)
- ААКИМР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10.
- ААКИМР. Ф. 1. Оп. 1 Д. 11.
- ААКИМР. Ф. 1. Оп. 1 Д. 28.
- ААКИМР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 33.
- ААКИМР. Ф. 1. Оп. 1 Д. 34.
- ААКИМР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 43.
- Арендт, Х. Истоки тоталитаризма /Х. Арендт ; пер. с англ. И. В. Борисовой и др. ; послесл. Ю. Н. Давыдова ; под ред. М. С. Ковалевой, Д. М. Носова. — Москва: ЦентрКом, 1996. — 672 с.
- Борисова, Ю. А. Партийные комитеты как органы политической власти в 20—30-е гг. XXвека:региональный аспект / Ю. А. Борисова // Власть. — 2008. — № 9. — С. 114—119.
- Боффа, Д. История Советского Союза : пер. с ит. / Д. Боффа. — Т. 1. — Москва : Международные отношения, 1994. — 571 с.
- Верт, Н. История Советского государства. 1900—1991 : пер. с фр. /Н. Верт. — Москва : Прогресс, 1992. — 480 с.
- Гимпельсон, Е. Г. Формирование советской политической системы. 1917—1923 гг. /Е. Г. Гимпельсон. — Москва : Наука, 1995. — 229 с.
- Грегори, П. Политическая экономия сталинизма: пер. с англ. /П. Грегори. — Москва : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. — 400 с.
- Гришанов, В. П. Деятельность партийных организаций Урала по укреплению сельских советов в 1928—1929 гг. /В. П. Гришанов //Партийное руководство советским и хозяйственным строительством на селе (на материалах Урала и Западной Сибири) : сб. науч. тр. / Свердл. гос. пед. ин-т. — Свердловск, 1978. — С. 74—86.
- Иванова, М. А. Сталинская «кадроваяреволюция» 1937—1938 годов:региональный аспект (поматериалам Прикамья) / М. А. Иванова //1 Астафьевские чтения (17—18 мая 2002 года). — Пермь, 2003. — С. 74—79.
- Игрицкий, Ю. И. Концепция тоталитаризма: уроки многолетних дискуссий на Западе /Ю. И. Игрицкий //История СССР. —1990 — № 6. — С. 172—190.
- Кожемякин, А. Эволюция местных органов Советской власти в России в 1917—1929 годах — URL: https://pandia.ru/text/77/457/30494.php (дата обращения: 28.10.2019).
- Колдушко, А. А. Сравнительный анализ партийной номенклатуры Пермского (Молотовского) горкома по руководящим кадрам 1937 и 1940 гг. /А. А. Колдушко // Номенклатура и номенклатурная организация власти в РоссииХХвека: материалы интернет-конф. «Номенклатура в истории советского общества» (ноябрь 2003 — март 2004 г.). — Пермь : ПГТУ, 2004. — С. 141—149.
- Колдушко, А. А. Динамика социального состава региональной партийной номенклатуры в Уральской (Свердловской) области во второй половине 1920-х — первой половине 1930-х гг. /А. А. Колдушко // Ученые записки гуманитарного факультета. — Вып. 14. — Пермь: ПГТУ, 2005. — С. 94—102.
- КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1898—1953. — Изд. 7. Ч. 1. 1898—1925. — Москва : Гос. изд-во полит. лит-ры, 1953. — 952 с.
- КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1898—1953. — Изд. 7. — Ч. 2. 1925—1953. — Москва : Гос. изд-во полит. лит-ры, 1953. —1204 с.
- Куликов, В. М. Деятельность Коммунистической партии по укреплению рабочего ядра в Советах и госаппарате в период построения фундамента социализма (на материалах партийных организаций Урала) / B. М. Куликов // Партийное руководство Советами на Урале (1905—1937) : сб. науч. тр. ; Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького ; [ред. кол.: А. А. Петерюхин (отв. ред.) и др.]. — Свердловск : УрГУ, 1984. — C. 118—138.
- ОГАЧО. Ф. 274. Оп. 3. Д. 14.
- ОГАЧО. Ф. 308. Оп. 3. Д. 15.
- ОГАЧО. Ф. 308. Оп. 3 Д. 18.
- ОГАЧО Ф. 308. Оп. 5. Д. 22.
- ОГАЧО. Ф. 308. Оп. 6. Д. 13.
- ОГАЧО. Ф. 308. Оп. 7. Д. 1.
- ОГАЧО. Ф. 308. Оп. 7. Д. 19.
- ОГАЧО Ф. 317. Оп. 1. Д. 264.
- ОГАЧО. Ф. 317. Оп. 1. Д. 266.
- ОГАЧО. Ф. 317. Оп. 1. Д. 309.
- ОГАЧО. Ф. 317. Оп. 1. Д. 457.
- ОГАЧО. Ф. 317. Оп. 1. Д. 866.
- Очерки истории Челябинской областной организации КПСС / [Н. К. Лисовский и др.] ; ред. кол.: А. И. Сысов Н. И. Соннов [и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1977. — 429 с.
- Плотников, И. Е. Сельские Советы Урала накануне сплошной коллективизации / И. Е. Плотников // Из истории Южного Урала и Зауралья ; Челяб. гос. пед. ин-т. — Вып. 7. — Челябинск, 1973. — С. 131—152.
- Плотников, И. Е. Роль Советов Урала в подъеме сельского хозяйства накануне сплошной коллективизации (1927—1929 гг.) /И. Е. Плотников //Из истории Южного Урала и Зауралья ; Челяб. гос. пед. ин-т. Вып. 8, ч. 1. — Челябинск, 1974. — С. 43—61.
- Смирнова, Т. М. Чистки соваппарата как часть повседневности 1920—1930-х гг. / Т. М. Смирнова // Вестник РУДН. Сер.: История России. — 2009. — № 3. — С. 103—120.
- Сорокун, П. В. Организация и деятельность окружных органов советской власти в Сибирском крае в 1925 — 1930 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 /П. В. Сорокун. — Иркутск, 2012. — 23 с.
- Фэйнсод, М. Смоленск под властью Советов / Мерл Фэйнсод ; под общ. ред. Е. В. Кодина ; пер. с англ. Л. А. Кузьмина ; Смоленск. гос. пед. ин-т. — Смоленск : ТРАСТ-ИМАКОМ, 1995. — 495 с.