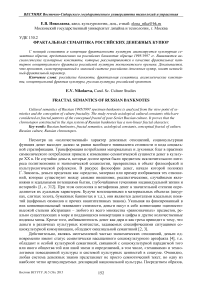Фрактальная семантика российских денежных купюр
Автор: Николаева Е.В.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Рубрика: Гуманитарные науки
Статья в выпуске: 5 (56), 2015 года.
Бесплатный доступ
С позиций семиотики и концепции фрактальности культуры анализируется культурная семантика образов, представленных на российских банкнотах образца 1995/1997 гг. Выявляются аксиологические культурные константы, которые рассматриваются в качестве фрактальных паттернов концептуального фрактала российской культуры постсоветского времени. Доказывается, что хронотоп, сконструированный в знаковой системе российских денежных купюр, носит нелинейный фрактальный характер.
Российские банкноты, фрактальная семантика, аксиологические константы, концептуальный фрактал культуры, русская культура, российский хронотоп
Короткий адрес: https://sciup.org/142143105
IDR: 142143105 | УДК: 130.2
Текст научной статьи Фрактальная семантика российских денежных купюр
Несмотря на «количественный» характер денежных отношений, социокультурная функция денег выходит далеко за рамки всеобщего эквивалента стоимости и кода социальной стратификации. Трансформация потребления материальных и духовных благ в практики символического потребления привела к изменению семиотической сущности денег в культуре ХХ в. Не случайно деньги, которые долгое время были предметом исключительного интереса политэкономии и экономической социологии, превратились в объект философской и культурологической рефлексии. В ракурсе философии денег, начало которой положил Г. Зиммель, деньги предстали как «средство, материал или пример изображения тех отношений, которые существуют между самыми внешними, реалистическими, случайными явлениями и идеальными потенциями бытия, глубочайшими течениями индивидуальной жизни и историей» [1, с. 312]. При этом онтология и метафизика денег в значительной степени определяются их дуальным характером. Будучи воплощенными в материальных объектах (шкурках, слитках золота, бумажных банкнотах и т.д.), они являются денотатами идеальных понятий (цифровых символов и прочих квантитативных знаков). Указывая на фиксированный в них конвенциональный эквивалент стоимости, деньги несут в себе коннотацию «ценности» высокой степени абстракции – любого из всего множества «равнозначных» предметов, реально существующих в мире и поддающихся конвертации в цифры и другие количественные индексы мены. Кроме того, амбивалентность денег как дара и как греха приводит к тому, что деньги в различных культурных контекстах, задаваемых специфическими ситуациями социокультурной коммуникации, обладают окказиальной семантикой [2, 3].
Действительно, являясь неотъемлемой частью экономических отношений, деньги одновременно имеют статус семиотически насыщенного социокультурного артефакта [4], т.е. обладают и особой культурной семантикой, связанной с социокультурной парадигмой того или иного общества той или иной эпохи и определяемой, в том числе, «техниками» и технологиями повседневной культуры и системой культурных ценностей в социуме. Очевидно, любая система денежных знаков представляет не просто семиотический текст, но одну из наиболее четко артикулируемых деклараций национальной культуры. Посредством образов, изображаемых на монетах и банкнотах, «каждая нация утверждает свою независимость, обзаводясь языком, выбирая цвета своего знамени» [5, с. 404], отмечал по этому поводу С. Московичи. По существу, в полном соответствии с известной максимой М. Маклюэна [6], деньги как средство культурной коммуникации и есть сообщение. При этом деньги, пожалуй, как ни одна другая знаковая система культуры, характеризуются многоуровневой семантикой и большой глубиной семиотического перекодирования [7, с. 57].
Более того, поскольку с помощью художественных визуальных кодов на монетах и банкнотах каждая культура выстраивает соответствующую ей аксиологическую иерархию, «деньги как непременный атрибут любого общества являются зеркальным отображением культурных и религиозных законов существования людей» [8, с. 5]. На особую концептуальную корреляцию, существующую между деньгами и культурными ценностями общества, указывал еще О. Шпенглер: «У всякой культуры имеется как свой собственный способ мыслить деньгами, так и присущий ей символ денег, с помощью которого она делает зримым свой принцип оценки» [9, с. 520] экономической и социальной реальности. Иными словами, деньги как часть социокультурной парадигмы символически становятся равны культуре в целом. Такое явление может быть описано в терминах концептуальной фрактальности. Поясним, что понятие «фрактал», введенное в научный оборот математиком Б. Мандельбротом [10], означает структуру, «части которой в некотором смысле подобны целому» [11, с. 19]. Фрактальные паттерны воспроизводятся на разных уровнях фрактальной системы в виде абсолютно одинаковых или похожих узоров, форм, конструкций и т.д. Самоподобие, которое выражается на уровне концептов – идеологем, мифологем, символов, ментальных схем и т.п., – мы называем концептуальной фрактальностью [12, 13]. Тогда государственная валюта в совокупности ее формального и образного воплощения как часть национальной культуры оказывается не просто символическим репрезентантом своей страны, но фрактальным паттерном концептуального фрактала своей культуры. В связи с этим совсем неудивительно, что графические и вербальные символы мировых валют соотносятся у представителей других культур в первую очередь с внешними социокультурными образами (имиджами) соответствующих стран [14], т.е. служат в качестве концептуальных фрактальных паттернов американской, европейской или китайской цивилизации.
Проанализируем с позиций фрактальной семиотики [15] российские денежные купюры постсоветского времени. Когда в начале 1990-х гг. рухнули социально-политические структуры, опиравшиеся на Одного Вождя и на Одну Партию, в системе денежных знаков (1993) временным репрезентантом государственной идентичности России стал Один Город – столица Москва. Однако в то время роль Москвы как един(ственн)ого центра самоидентификации российской культуры была достаточно условной, и банкноты следующего (1995/1997) выпуска закрепили социокультурную значимость различных ареалов России. Иерархия их весьма любопытна и отражает сложный процесс поиска культурных опор в построении концептуального фрактала российской культуры, актуализирующего ее исторически значимые ценности.
Банкноты, расположенные в порядке возрастания номинала от 1 тысячи неденоминированных рублей до 5 тысяч деноминированных рублей, выстраивают следующую иерархию российских городов: Владивосток, Новгород, Красноярск, Санкт-Петербург, Москва, Архангельск, Ярославль, Хабаровск. Особое значение имеет сам факт выбора именно архитектурно-территориального принципа как основы новой российской государственной «иконографии». Не выдающиеся личности – политические деятели, ученые, люди искусства, – а природная среда, архитектурные памятники и индустриальные сооружения стали главными постулатами возрождающейся российской цивилизации. Причины этого в значительной степени кроются в невозможности следовать российской/советской нумизматической традиции: в 1990-х гг. единого легендарного лидера у нации уже не было, «канонизация» и «деканонизация» еще продолжалась, и выстроить иерархию личностей просто не было возможности.
Однако любая сложная динамическая система (а система государственного управления, связанная с суверенитетом государства, и культура, направленная на сохранение националь- ной идентичности, являются таковыми) стремится вернуться в состояние равновесия, следовательно, новая культурная парадигма России, которая посредством денежных знаков страны в символическом виде фиксируется публично перед всем миром, должна в своем основании иметь наиболее устойчивые архетипы русской культуры. Единственными априорными ценностями являются история и территория государства как таковые, как символ того, что государство существует не на пустом месте. Особенно значима история, запечатленная в камне и бронзе, «вечная», в отличие от истории смертных личностей, ведь и в целом для русской ментальности характерно пренебрежение бренным и личностным во имя непреходящего и общего. Таким образом, оставалась только одна возможность – выстроить иерархию культурно-исторических артефактов, используя географическое пространство России как базовую константу в новой аксиологической системе. И хотя географические образы составляют неотъемлемую часть любой цивилизационной идентичности, на протяжении всей истории России их роль в ее самоидентификации и саморепрезентации необычайно велика [16, 17]. Закономерным образом, в 1990-х гг. именно территориальный принцип структурирует новую российскую государственную и социокультурную идентичность. Этим определяется и почти полное отсутствие на банкнотах изображения живых людей или их портретов. Если же и встречается отсылка к какой-либо исторической личности (например, Петру I на 500рублевой банкноте), то она реализуется как образ памятника (т.е. образ образа), а не самого человека, что связано с постулированием новой российской культурой не личностных качеств, а обобщенных идей. На новых российских банкнотах возникает безлюдный, свободный от сиюминутного человеческого движения, вечный, самоценный в своей исторической и географической протяженности хронотоп, нередко с трансформацией пространств и нелинейными законами перспективы. Нельзя не согласиться с В.Л. Каганским, который исследовал культурный ландшафт (т.е. физическое и образно-символическое воплощение территории), сконструированный в системе современных российских банкнот, что Россия представлена как большая северная империя, репрезентированная центрами и краями-рубежами; русское православное государство; морская держава; лесная, индустриальная страна, богатая ресурсами [18]. Однако, на наш взгляд, соотнесенность этих концептуальных паттернов российской культуры в последовательности российских денежных купюр как семиотической системы имеет более сложный фрактально-семантический характер.
Рассмотрим подробнее каждую из банкнот.
1000 рублей (1995). ВЛАДИВОСТОК. (Выведена из обращения в 1997 г.)
Аверс: Бухта Золотой Рог. Торговый порт. Передний план – подъемные краны. Второй план – корабли. Задний план – многоэтажный жилой массив. Врезка на переднем плане – памятник русскому паруснику «Манчжур».
Реверс: передний план – бухта Рудная. Две скалы («Два брата»). На втором плане – морские суда. Задний план – маяк на крутом утесе.
Аксиологические культурные константы: необъятная территория России (Владивосток – практически самая крайняя точка на юго-востоке России). Военная защита границ (команда парусника «Манчжур» основала в 1860 г. военный пост, имевший для России первостепенное значение на Тихом океане). Россия – развитая морская держава (Тихий океан, корабли, торговый порт). Россия имеет цель ‒ маяк, который светит ей в ее путешествии между «Сциллой и Харибдой», т.е. Востоком и Западом, по своему, третьему пути.
Символично, что деноминационная денежная реформа 1997 г. изъяла эту купюру из обращения (1 тысяча превратилась в 1 рубль, который стал металлической монетой). Можно сказать, что краеугольный камень системы парадигматических констант (концептуальных фрактальных паттернов) был из-под нее выбит, что в культурно-политическом поле соответствовало ослаблению российских позиций на Тихом океане (сокращение Тихоокеанского флота, колоссальные экономико-технологические проблемы Дальнего Востока, определенные шаги в сторону признания территориальных претензий Японии в отношении Курильских островов).
5000 рублей (1995) / 5 рублей (1997). НОВГОРОД. (Вышла из оборота с 2001 г.)
Аверс: Врезка на переднем плане – памятник тысячелетию Руси. Второй план – Софийский собор.
Реверс: первый план – стена новгородского кремля (Детинца) с башнями и часть внутреннего пространства (деревья и тропинка вдоль стен). На заднем плане – река Волхов.
Аксиологические культурные константы: древность (первое упоминание о Новгороде относится к 859 г.) Российская государственность и культура (памятник тысячелетию Руси). Величие (Господин Великий Новгород). Народная демократия и самоуправление (Новгородское вече) и государственная мудрость на основе православия (Софийский собор). Военная з ащита государственной независимости Руси (крепостные стены). Рождение (возрождение) новой культуры через вербальную символику (Новый город, Детинец).
Несмотря на то что присутствие фигуры Александра Невского несомненно в разворачиваемом символическом ряду, установка на «дегуманизацию» пространства не нарушается и князь остается за скобками.
10000рублей (1995) /10рублей (1997). КРАСНОЯРСК.
Аверс: коммунальный мост через реку Енисей. Врезка – часовня Параскевы Пятницы на Караульной горе.
Реверс: красноярская гидроэлектростанция.
Аксиологические культурные константы: промышленность и освоение природных ресурсов (ГРЭС, Сибирь). Пространственные и культурные коммуникации (мост соединяет старую и новую части города подобно тому, как соединяются старая и новая культуры, хотя между ними и пролег очередной, конца ХХ в., рубеж). Защита от нападения извне (Караульная гора), причем не только военная , о чем свидетельствует название горы, но и духовная – через часовню, в которой звучали когда-то молитвы о защите небесной.
50000рублей (1995) /50рублей (199 7). САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
Аверс: Передний план – фрагмент Ростральной колонны: монументальная скульптура символической фигуры Невы, одной из четырех великих рек западной части России. Второй план – набережная реки Невы. Задний план – Петропавловская крепость. Храм Петра и Павла.
Реверс: передний план – воды Невы. Второй план – Ростральная колонна и здание Биржи.
Аксиологические культурные константы: развитые экономические отношения (Биржа). Экономика , обращенная к Европе.
Как сам город стал некогда «окном в Европу», так и Нева стала морской дорогой в европейскую цивилизацию. Дорога эта была в свое время завоевана сложными победами на море, и важность этого завоевания для русской культуры фиксирует дважды повторенное на купюре изображение Ростральной колонны. На этой банкноте впервые появляются живые люди. Это три стоящие к нам спиной фигурки, вероятно, семья (муж, жена и дочь-подросток). Во всяком случае, жест мужчины, обнимающего женщину за плечо, характеризует их близкие отношения. Любовь и семья начинают приобретать некоторое значение в выстаиваемой аксиологической системе (хотя и отнюдь не первостепенное – где-то в уголке экономического благополучия). Знаменательно, что изображаются личности ничем не выдающиеся, как бы маленькие люди, а тот, с кем в первую очередь связан миф Петербурга, Петр I, не представлен даже в виде памятника. Тема православной веры при этом сохраняется, но уходит на третий план.
100000 рублей (1995)/100 рублей (1997). МОСКВА .
Аверс: фрагмент здания Большого театра: монументальная фигура Аполлона в колеснице, запряженной четверкой лошадей.
Реверс: здание Большого театра и пышная зелень сквера перед ним. Несколько крохотных человеческих фигурок возле театра.
Аксиологические культурные константы: собственно культура и искусство (Аполлон – покровитель искусства, Большой театр – символ российской культуры).
Искусство вновь не персонифицировано и мифологизировано. Дается лишь некий фа- сад, некие не достижимые маленькими людьми высоты. Здание театра – как музыкальная шкатулка: в нем заключено все русское классическое искусство мирового уровня. Это «витринный» аспект русской культуры, репрезентация через узнаваемость. С другой стороны, театр становится репрезентантом российской культуры потому, что для нее было важно провозглашение и проявление в физическом мире своих идеальных конструктов, которые могут получить материализацию только посредством слова и обряда. Именно театр в отличие от живописи или кинематографа в состоянии обеспечить активное приобщение к некоторым коллективным ритуальным действам, а ведь только совместно пережитая реактуализация первичного мифа может обновить социальную и духовную жизнь коллектива. Не случайно появление в 1990-х гг. экспериментальных театров, в которых актеры стали играть в пространстве всего зрительного зала, делая зрителей соучастниками ритуала.
500000руб. (1995)/500руб. (199 7). АРХАНГЕЛЬСК.
Аверс: передний план – врезка: памятник Петру I. Второй план – парусный корабль. Задний план – здание порта.
Реверс: передний план – водное пространство, река Северная Двина, яхта под парусом. Второй план – воды Белого моря и стены и башни Соловецкого монастыря с храмами и постройками внутри.
Аксиологические культурные константы: необъятная территория России (Архангельск – крупный город на северо-западной окраине РФ). Древность (история Архангельска начинается с ХII в.). Центр морской торговли России (в том числе место построения Петром I первого российского торгового флота). Защита военная и духовная (Соловецкий монастырь не раз в своей истории выполнял также и роль военной крепости). Единоличное управление и реформирование (памятник Петру I; парусник, управляемый одним человеком, идущий поперек стремительного водного потока).
Эта банкнота, выпущенная в оборот в марте 1997 г., имеет значимые особенности. Во-первых, на ней впервые появляется Личность (пусть и в виде образа второго порядка) – царь-реформатор Петр I. Во-вторых, ею замкнулся символический круг базовых аксиологических констант российской культуры: 500-рублевая (на конец 1990-х гг. ХХ в. – самого большого достоинства) купюра имеет то же самое означаемое, что и 1000-рублевая (1995) (самого маленького достоинства). С упразднением последней исходная константа становится наивысшей в иерархии национальных культурных ценностей. Отличие лишь в пространственной направленности – с Востока на Запад. Но при этом сохраняется акцент на суровости условий, связанных с природой крайних, рубежных пространств, что семантически являет собой параллель к российской культурной ситуации в период политического и календарного рубежа конца ХХ в.
1000 рублей (образца 199 7 г., в обороте с 2001 г.). ЯРОСЛАВЛЬ.
Аверс: передний план – врезка: памятник Ярославу Мудрому с мечом и макетом крепостной башни в руках (1993); герб Ярославля. Второй план – часовня Казанской иконы Божией Матери (1997), небольшой мост, ведущий к монастырю, два зеленых дерева. Задний план – Спасо-Преображенский монастырь (XII в.) с церковью Печерской иконы Божией Матери и Святыми воротами.
Реверс: церковь Иоанна Предтечи (XVII в.).
Аксиологические культурные константы: древность (основание Ярославля относят к 1010 г., Свято-Преображенского монастыря – к 1216 г.). Православие (Ярослав Мудрый – святой благоверный князь; все здания на купюре относятся к культовым постройкам восточного христианства). Государственная мудрость (великий князь Ярослав Мудрый – один из первых объединителей русских земель; в числе прочего построил храм Св. Софии, организовал библиотеку; Свято-Преображенский монастырь – одно из первых духовных училищ Древней Руси с большой библиотекой, собиравшейся с XIII в.). Правовой характер государственной власти (с именем Ярослава Мудрого связан первый свод законов древнерусского права «Русская правда»; на банкноте впервые появляется городской герб как знак кодифицированной государственности). Военная и духовная з ащита русской государственности
(Свято-Преображенский монастырь в Смутное время выдержал осаду польских войск; из него будущий царь Михаил Романов отправил свою первую грамоту о согласии на престол; в монастыре была обнаружена рукопись «Слова о полку Игореве»; часовня Казанской иконы Божией Матери стоит на месте, откуда полки Минина и Пожарского двинулось на освобождение Москвы, сама икона соотносится с победой над польско-литовскими интервентами в 1611-1613 гг.). Народное самоуправление (ополчение Минина и Пожарского). Рождение (возрождение) новой культуры (сочетание древних и новых памятников). Культура мирового уровня (коннотативные отсылки к Золотому кольцу России; исторический центр города, в том числе церковь Иоанна Предтечи и ее колокольня в стиле «московского барокко», является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО).
Удивительно, но в системе концептуальных паттернов русской культуры, транслируемых посредством образов города Ярославля, отсутствует великая русская река – Волга, на берегах которой он расположен. Возможно, в рамках семиотической системы национальной валюты как концептуального фрактала российской культуры Волга с ее «внутренней» локализацией без очевидной семантики границы оказалась невостребованной.
Нетрудно заметить, что в тысячной купюре практически полностью повторяется система аксиологических констант, репрезентированных в 5-рублевой банкноте, которая, начиная с 2001 г., постепенно вышла из оборота. При этом семиотическая валентность знаков православной веры в новой банкноте сильно возросла. Более того, всей системой артефактов, выбранных для репрезентации Ярославля, акцентируется божественный характер государственной власти: великий князь Ярослав Мудрый, канонизированный уже после ввода в оборот тысячной купюры, на банкноте помещен в особое обрамление, имеющее графические коннотации с рамой иконостаса, ореолом святого и планом-чертежом христианского храма. Отметим, что на всех других купюрах фигуры-памятники находятся не внутри, а рядом с подобного рода фигурными элементами. Посредством такой сакрализации образ правителя, представленного (как и на 500-рублевой банкноте) в виде памятника, транслирует надличностную идею священной государственной власти.
5000 рублей (образца 1997 г., в обороте с 2006 г.). ХАБАРОВСК .
Аверс: передний план – Памятник Н.Н. Муравьеву-Амурскому; несколько деревьев. Второй план – набережная им. Невельского; Амурский утес с башней бывшей спасательной станции, река Амур. Задний план – баржа, плывущая по реке; сопки на другом берегу.
Реверс: мост через реку Амур, стела «Ладья», зеленые деревья. Задний план – широкий горизонт дальнего берега Амура, облака на небе.
Аксиологические культурные константы: военная защита (Хабаровск был основан как военный пост; Муравьев-Амурский принимал участие в боевых действиях на Кавказе). Необъятная территория России (Хабаровск – крупный город на восточной окраине РФ; Муравьев-Амурский закрепил границу с Китаем по реке Амур; стела «Ладья» – символ русских первопроходцев). Международная торговля в северо-азиатском регионе (Хабаровск – крупный торгово-транспортный узел, речной порт). Воз ( рождение ) военной, государственной и технологической мощи страны (памятник генерал-губернатору 1891 г., снесенный в 1920-х гг., был восстановлен в 1992 г.; старый Амурский мост (1916), признанный в свое время «инженерным чудом», был частично разобран и реконструирован (1998-2009)). Широкие и долгосрочные перспективы развития России (Амурский мост уходит в дальнюю даль, «за горизонт» – в отличие от Красноярского моста (на 10-рублевой банкноте), за которым виден лишь ограниченный участок близлежащей местности).
Очевидно, теперь на первый план выходит военная и технологическая независимость Российского государства. При этом с помощью репрезентации Хабаровска как города, акцентирующего восточную границу России, в общей системе аксиологических констант вновь происходит разворот символического вектора с Запада на (Дальний) Восток.
Подводя итог, отметим, что визуальные образы, транслируемые посредством государственной валюты, играют роль символических репрезентантов фундаментальных ценностей культуры, т.е. выступают в качестве концептуальных паттернов фрактала национальной культуры. Концептуальный фрактал российской культуры, сконструированный в знаковой системе российских денежных купюр (образца 1995/1997 гг.) в соответствии с возрастанием их номинала, предстает в виде следующей аксиологической иерархии нелинейного типа:
ТЕРРИТОРИЯ ^ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ^ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ^ ЭКОНОМИКА ^ КУЛЬТУРА ^ ТЕРРИТОРИЯ ^ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ (ПРАВОСЛАВИЕ) ^ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (ТЕХНОЛОГИИ).
Стоит отметить, что при кажущейся очевидности такой иерархии (в ее основных чертах) для любого государства изображения на банкнотах национальных валют развитых стран мира далеко не всегда подчиняются подобной структуризации. Так, например, американский доллар транслирует один главный концептуальный паттерн – идею демократии, основанной на президентской власти (портреты выдающихся президентов США).
Что же касается фрактальной семантики российских денежных купюр, то наряду с выделенными выше концептуальными паттернами неизменный семиотический фон составляют такие социально-культурные категории, как древность, православие, возрождение, защита отечества, великая морская держава, международная торговля. Таким образом, в семантическом поле российских денежных купюр создана концептуальная матрица российской культуры, которая имеет характер открытой нелинейной фрактальной системы.
Список литературы Фрактальная семантика российских денежных купюр
- Зиммель Г. Философия денег//Теория общества. -М.: КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле, 1999. -416 с.
- Зелизер В. Создание множественности денег//Экономическая социология. -2002. -Т. 3, № 4. -С. 58-72.
- Поланьи К. Семантика использования денег//Избранные работы. -М.: Территория будущего, 2010.-С. 89-103.
- Зарубина Н.Н. Деньги как социокультурный феномен. -М.: Анкил, 2011. -200 с.
- Московичи С. Деньги как страсть и как представление//Машина, творящая богов. -М.: Центр психологии и психотерапии, 1998. -С. 363-420.
- Маклюэн М. Средство коммуникации есть сообщение//Понимание медиа: внешние расширения человека. -М.: Канон-пресс-Ц, 2003. -С. 9-26.
- Лукин В.А. Семиотика денег: деньгоцентричность человека и антропоцентричность денег//Политическая лингвистика. -2013. -№ 2 (44). -С. 55-64.
- Лиетар Б. Душа денег. -М.: Олимп; АСТ; Астрель, 2007. -365 с.
- Шпенглер О. Закат Европы: В 2 т. Т. 2. -М.: Айрис-пресс, 2004. -624 с.
- Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. -М.; Ижевск: ИИКИ, НИЦ «РХД», 2010. -656 с.
- Федер Е. Фракталы. -М.: Мир, 1991. -254 с.
- Николаева Е.В. Фрактальные уровни и паттерны культуры//Вопросы культурологии. -2013. -№ 11. -С. 55-59.
- Николаева Е.В. Фрактальные метафоры культур//Обсерватория культуры. -2013. -№ 5. -С.11-18.
- Калита В.В., Николенко Ю.С. Категориальная структура и содержание образов мировых валют, имеющих хождение на территории Дальневосточного региона//Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. -2008. -№ 4 (20). -С. 49-52.
- Тарасенко В.В. Фрактальная семиотика. -М.: Либроком, 2009. -232 с.
- Ахиезер А.С. Российское пространство как предмет осмысления//Отечественные записки. -2002. -№ 6 (7). -С. 72-86.
- Замятин Д.Н. Политико-географические образы российского пространства//Вестник Евразии. (Acta Eurasica). -2003. -№ 4 (23). -С. 34-46.
- Каганский В.Л. Российское пространство в российских деньгах//Русский журнал. Ноябрь, 2004. . -URL: http://old.russ.ru/culture/20041117.html