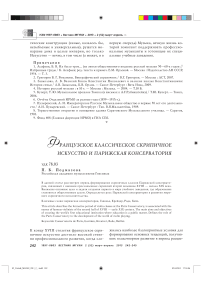Французское классическое скрипичное искусство и парижская консерватория
Автор: Подмазова Полина Борисовна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Искусствознание
Статья в выпуске: 2 (52), 2013 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассмотрен период формирования скрипичных классов Парижской консерватории, связанный с именами прославленных скрипачей второй половины XVIII — начала XIX века. Выявлены основные цели и задачи создания первого в мире учебного заведения, где образование становится общественным делом. Определяется роль Парижской консерватории в развитии мирового скрипичного исполнительства.
Парижская консерватория, гавинье, крейцер, роде, байо
Короткий адрес: https://sciup.org/14489456
IDR: 14489456 | УДК: 78.03
Текст научной статьи Французское классическое скрипичное искусство и парижская консерватория
К концу XVIII столетия французское скрипичное искусство достигло высокой степени профессионального развития, когда сло- жились наиболее благоприятные условия для формирования основных тенденций, получивших плодотворное развитие в период расцве-
242 1997–0803 ВЕСТНИК МГУКИ 2 (52) март–апрель 2013 242–245
та виртуозного направления в европейской музыке XIX века. Столица Франции стала одним из самых значительных культурных центров Европы, именно в Париже в 1795 году открылась первая в мире консерватория нового типа [2, с. 312], которая в течение почти ста лет оставалась ведущим учебным заведением Европы.
До 1789 года во Франции основным «институтом» в музыкальном образовании являлась Римско-католическая церковь. Целью многочисленных церковных школ — так называемых Maîtrises — было воспитание певцов для церковных хоров. Узкая направленность, ограниченность музыкального образования в этих школах негативно сказывались на развитии французского музыкального искусства в целом.
Воспитание инструменталистов не имело системного характера. Королевская музыкальная академия, основанная в 1671 году Жаном-Батистом Люлли (1632—1687), притягивала лучших артистов Франции. Музыкальные школы, организованные под патронажем Люлли на базе существовавших оркестров, обучали исполнительскому стерству, а наиболее одаренные ученики лучали возможность продолжить свою полнительскую деятельность в составе ма-по-ис-ор-
кестра. Но все же Королевская музыкальная академия долгое время оставалась скорее исключением из правил. На протяжении XVIII века лучшие парижские оркестры, и прежде всего оркестр Concert Spirituel, пополняли свои ряды профессиональными музыкантами благодаря широкой практике частной музыкальной педагогики.
Французская революция, изменившая уклад жизни, поставила новые задачи и перед музыкальным образованием. Для организации провозглашенных революцией грандиозных народных празднеств потребовалось большое количество певцов, актеров, танцоров, поэтов, художников-оформителей, музыкантов-инструменталистов. Декрет Конвента от 3 августа 1795 года об учреждении Парижской Высшей национальной консерватории музыки и танца был призван помочь Франции в формировании новых артистических сил [5, с. 314].
Парижская консерватория явилась первым в мире учебным заведением, где музыкальное образование стало общественным делом. Сюда на конкурсной основе принимались граждане обоих полов из разных департаментов Франции, независимо от социального статуса и происхождения. На торжественном открытии консерватории 22 октября 1797 года ее первый директор Бернар Сарретт выступил с речью, в которой изложил основные пожелания Национального конвента к руководству консерватории: «… Предоставить музыке достойное убежище и политическую защищенность, которого она была лишена слишком долгое время; […] создать очаг для развития всех областей, которое включает музыкальное искусство» [7, с. 24—25]. Кроме того, консерватория должна была готовить артистов для проведения революционных праздников, для военной службы и для театров.
Получив статус ведущего учебного заведения страны, Парижская консерватория к 1797 году насчитывала 125 преподавателей и 600 учеников [7, с. 32]. По приглашению Б. Сарретта, здесь собираются лучшие музыкальные силы Парижа — Ф.-Ж. Госсек, А. Гретри, Ж.Ф. Лессюэр, Э.Н. Мегюль, Л. Керубини, Н. Далейрак, Б.Г. Ромберг, П. Гавинье, Р. Крейцер, П. Роде, П. Байо и многие другие.
Одной из первоочередных задач руководства консерватории было создание методических пособий по всем преподаваемым специальностям, в том числе и по классу скрипки. Новые тенденции в музыкальном искусстве потребовали и новых методов воспитания. Соответствующее указание, обращенное к профессорам Байо, Роде, Крейцеру, способствовало четкому оформлению методических принципов классической скрипичной «Школы» (известной также под названием «Метода Парижской консерватории»), в которой отразились эстетические и методические воззрения ее авторов. «Школа» опиралась на труды выдающихся скрипачей, здесь был собран и обобщен опыт, накопленный за


ISSN 1997-0803 ♦ Вестник МГУКИ ♦ 2013 ♦ 2 (52) март-апрель ^
предшествующий период развития скрипичного искусства. Французская педагогика и исполнительство во многом приобрели ведущее значение в Европе, а «Скрипичное искусство» Ж.-Б. Картье (1798), «Школа Парижской консерватории» (1802), «Искусство скрипки» П. Байо (1834) на долгие годы стали наиболее популярными пособиями в разных странах. Развитие идей, изложенных профессорами Парижской консерватории, в дальнейшем нашли продолжение в трудах их учеников и последователей, что в значительной степени способствовало совершенствованию скрипичного исполнительского мастерства.
Формирование скрипичных классов Парижской консерватории условно можно разделить на два этапа. Первый (1795—1800) связан с именем Пьера Гавинье, крупнейшего музыканта второй половины XVIII столетия, а второй этап (1795—1842) — с деятельностью Родольфа Крейцера, Пьера Роде и Пьера Байо. Прославленный скрипач Пьер Гавинье (1728—1800), игравший важную роль в развитии скрипичного исполнительства в XVIII столетии, получил приглашение возглавить скрипичные классы только что открывшейся консерватории. «Он некоторое время колебался в нерешительности, — вспоминал современник Гавинье Пьер Бернадо, — затем согласился занять там место преподавателя по классу скрипки, место, которое он занимал вплоть до своей кончины с исправностью и успехом» [8, с. 298]. Активность и преданность, с которыми маэстро, находясь в преклонном возрасте и страдая тяжелыми недугами, взялся за организацию скрипичных классов консерватории, достойны восхищения.
Гавинье обучал своих учеников естественности и искренности выражения чувств в соответствии с композиторским замыслом, придавая особое значение искусству ансамблевой игры [9, с. 589]. Он умел их поддержать, вселить веру в себя и свой успех, со многими из них занимался бесплатно, некоторых даже содержал на свои средства. Когда он услышал у маркиза де Бомона игру молодого Александра Буше, он сказал его отцу: «Этот ребенок — поистине маленькое чудо, и ему предстоит стать одним из первых артистов нашего века. Поручите его мне. Я желаю руководить его занятиями и помочь ему развивать его ранний гений, и моя обязанность будет тем более легкой, потому что в нем горит священный огонь» [8, с. 299]. Итогом педагогической деятельности Пьера Гавинье стали знаменитые «Les Vingt-quatre Matinées» — сборник этюдов, обобщивших развитие скрипичной техники к началу XIX века и явившихся новым для этого времени жанром «художественного этюда».
Второй этап в развитии скрипичного исполнительства в стенах Парижской консерватории на рубеже XVIII—XIX веков связан с активной концертной и педагогической деятельностью ее ведущих профессоров по классу скрипки — Родольфа Крейцера, Пьера Байо и Пьера Роде. Все они были страстными последователями стиля главы французской классической скрипичной школы Джованни-Баттисты Виотти (1755—1824), сумевшего соединить итальянские традиции с достижениями французской скрипичной школы XVIII века. Вдохновленные искусством своего великого учителя, они в знаменитой «Школе Парижской консерватории» высоко оценили его искусство владения скрипкой: «Этот инструмент, созданный природой, чтобы царствовать на концертах и подчиняться требованиям гения, в руках больших мастеров приобрел самый разный характер, который они пожелали ему придать. Простой и мелодичный под пальцами Корелли; гармоничный, нежный, полный грации под смычком Тартини; приятный и чистый у Гавинье; грандиозный и величавый у Пуньяни; полный огня, смелости, патетический, великий — в руках Виотти, он достиг совершенства, чтобы выражать страсти с энергией и с тем благородством, которые обеспечивают ему место, им занимаемое, и объясняют власть, которую он имел над душой» [3, с. 2].
Всемирно известные «42 Etudes ou Caprices» для скрипки Родольфа Крейцера (1766—1831) обозначили новое направление в педагогике начала XIX века и до сих пор являются не-
отъемлемой частью репертуара скрипачей. Крейцер воспитал плеяду выдающихся виртуозов Франции во главе с прославленным Шарлем Филиппом Лафоном (1781—1839). Лучшие традиции французской классической скрипичной школы нашли продолжение в педагогической деятельности другого его знаменитого ученика — Ламбера Жозефа Массара (1811—1892), у которого обучались блестящие скрипачи-виртуозы — Г. Венявский, Ф. Ондржичек и Ф. Крейслер.
Пьер Роде (1774—1830) — блестящий виртуоз, развивал сентиментально-романтическое направление в исполнительстве. В его исполнении Байо подчеркивал красоту звука, чистоту интонации и изящество штрихов. «Все, кто слышал его знаменитого учителя Виотти, единогласно утверждают, что Роде вполне овладел прекрасной манерой учителя, придав ей еще больше мягкости и нежного чувства», — восторженно отзывалась о манере Роде «Берлинская музыкальная газета» [10, с. 378]. С 1795 года до своего отъезда в Петербург (1802) он входил в состав профессоров первого ранга Парижской консерватории, его лучшие ученики — Й. Бем и Ш. Лафон.
С именем Пьера Байо (1771—1842) связаны яркие достижения скрипичного искусства и педагогики [4, с. 490]. Являясь одним из лучших солистов Франции первой половины XIX века, он не имел себе равных в Европе как ансамблист. Фетис так отзывается о нем: «Байо в квартете был более чем великим скри- пачом — он был поэтом!» [6, с. 221]. Именно ему оказалось по силам отразить в «Методе Парижской консерватории» (совместно с коллегами Крейцером и Роде) передовую эстетику французского скрипичного исполнительства того времени, которое представлялось как умение «передавать страсти с энергией и благородством, […] затрагивать сердца и возвышать души» [3, с. 3]. Здесь была определена значимость таких фундаментальных структур скрипичного мастерства, как воспитание музыкально-эстетического вкуса исполнителя, высочайшей культуры звучания инструмента, отточенности штриховой техники, поиск виртуозно-выразительных средств, и все это — в стремлении найти новые возможности в целях усиления художественного воздействия на слушателя. Капитальный труд П. Байо «Искусство скрипки» (1834), до этого не имевший аналогов в педагогической литературе, подытожил, развил и завершил традиции, которые были сформулированы в «Методе Парижской консерватории».
Первая в мире профессиональная консерватория заняла почти на целое столетие ведущее положение в мировой музыкальной педагогике. Выдающиеся скрипачи последующей эпохи — Г. Венявский, П. Сарасате, Ш. Лафон, Л. Массар, Ж.-Б. Мазас, Д. Аляр, Ю. Леонар, Ф. Ондржичек, И. Лото, Ф. Крейслер, Дж. Энеску, К. Флеш, Ж. Тибо и многие другие сформировались под воздействием лучших ее традиций.