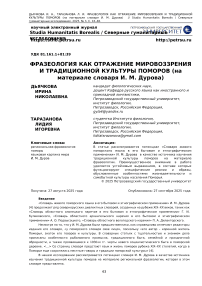Фразеология как отражение мировоззрения и традиционной культуры поморов (на материале словаря И. М. Дурова)
Автор: Дьячкова И.Н., Таразанова Л.И.
Журнал: Studia Humanitatis Borealis @studhbor
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 3 (35), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается потенциал «Словаря живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении» И. М. Дурова в качестве источника изучения традиционной культуры поморов на материале фразеологии. Преимущественное внимание в работе уделяется устойчивым выражениям, в составе которых функционируют специфические реалии и образы, обусловленные особенностями жизнедеятельности и самобытной культуры населения Поморья.
Региональная фразеология, поморы, языковая картина мира, И. М. Дуров
Короткий адрес: https://sciup.org/147251772
IDR: 147251772 | УДК: 81.161.1+81:39 | DOI: 10.15393/j12.art.2025.4246
Текст научной статьи Фразеология как отражение мировоззрения и традиционной культуры поморов (на материале словаря И. М. Дурова)
Studia Humanitatis Borealis / Северные гуманитарныеKTETV иhсtсtpлsе:д//
«Словарь живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении» И. М. Дурова [4] продолжает ряд севернорусских диалектных словарей, созданных на рубеже XIX–XX веков, таких как «Словарь областного олонецкого наречия в его бытовом и этнографическом применении» Г. И. Куликовского, «Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении» А. О. Подвысоцкого, «Словарь областного вологодского наречия» П. А. Дилакторского.
Несмотря на то, что у И. М. Дурова были предшественники, как справедливо отмечают редакторы издания его словаря, «у поморского словаря свое лицо», поскольку «его автор – коренной житель Поморья, знаток его говоров и культуры. В словарных статьях с тщательностью и знанием дела прописаны особенности рыболовного промысла, традиционного быта, семейной и праздничной обрядности, а также проявившиеся к 1930-м гг. черты нового социалистического быта в поморской деревне. <…> Со страниц словаря предстают язык и жизнь поморов рубежа XIX–XX столетий, когда в Поморье еще сохранялись местные говоры и традиции поморской культуры» [4].
В нашем исследовании рассматривается потенциал словаря И. М. Дурова в качестве источника изучения традиционной культуры поморов на материале региональной фразеологии, которая в этом словаре представлена.
Под фразеологизмом понимается «единица языка, состоящая не из слов, а из компонентов, которые утратили признаки слова (лексическое значение, формы изменения слова и лексико-грамматические особенности слова)» [6: 6], это устойчивые образные выражения, воспроизводимые в готовом виде: бить баклуши , зарубить на носу, как без рук, ни рыба ни мясо и подобные. Все приведенные выше примеры относятся к общерусскому фразеологическому фонду, однако помимо него не меньший интерес для исследователей русского языка представляет его диалектная фразеология, в составе которой находит отражение региональная речевая культура, обусловленная историей, традициями, условиями жизни, особенностями быта, обрядами и верованиями местного населения. Нередко этот срез может оказаться и более архаичным в сопоставлении с литературным языком, поскольку в нем могут сохраняться явления и факты, утраченные в общем употреблении. Возможности и аспекты изучения севернорусской региональной фразеологии, в том числе и поморской, в этом направлении представлены в исследованиях Е. Л. Березович, И. И. Муллонен [2]; О. Е. Морозовой [7], Е. П. Андреевой [1], Н. И. Комковой [5] и некоторых других лингвистов, однако поморская фразеология, зафиксированная в словаре И. М. Дурова, ранее специально не изучалась.
Результаты и обсуждение
В «Словаре живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении» фиксируется значительное количество неоднословных выражений, однако не все из них можно отнести к фразеологизмам.
Так, не являются фразеологизмами топонимы , например, такие как: Ва́рака Неме́цкая – «один из скалистых безлесных островов, носящих общее название Кузова, между Кемью и Соловками. Повс.» (Дуров1: 45); Горе́лы лу́ды – «лишенные растительности надводные островки на Сумской губе Белого моря. Сум.» (Дуров: 83); Госуда́рська дорога – «под этим названием до сих пор известна в народной памяти проложенная Петром Великим дорога от села Нюхчи с берега Белого моря к Онежскому озеру до Повенца. Нюх.» (Дуров: 86); Кандала́ськой бе́рег – «часть западного берега Белого моря от с. Кандалакша до с. Варзуга. Повс.» (Дуров: 161) и под.
То же касается обозначений терминологического характера : см., например, борово́й лес ‘рудовой, хорошего качества строевой хвойных пород лес’ (Дуров: 36), головно́й ка́рбас ‘карбас, в котором находится головной рыбак, идет всегда впереди на разведках’ (Дуров: 80); денна́(я) вода ‘уровень воды на море в дневные часы’ (Дуров: 97), а также хрононимов – названий праздников и событий типа Ве́рбна неде́ля, Великодённой четве́рг, Вели́ко заговенье, Вели́кой пост, Дими́триевська суббо́та, Ири́нья Корешница, Онуфрей Солнцеповорот и многочисленных отхрононимных образований михайловская сельдь, веденьёвска сельдь, варвареньска сельдь – последние чаще всего, как показывают примеры, фиксируются в значении ‘рыбный промысел, начало которого соотносится с определенным церковным праздником’.
Несомненно, этот материал также может много рассказать о традиционном мировидении и условиях жизни помора: в нем отражается образ освоенного им пространственного ареала, причем в основном актуального для повседневности – морского: названия островов и островков, мелей, изгибов береговой линии; отчетливо обозначается связь православного календаря не с земледелием, как на остальной территории Русского Севера, а с традиционными морскими промыслами – добычей сельди, кореха, семги. Номинация варака немецкая , по всей видимости, должна рассматриваться в ряду других «немецких» топонимов на территории Карелии, возникших в результате освоения карел. niemi ‘мыс, полуостров’ [8: 30–31] и свидетельствующих о межъязыковых контактах поморов и коренного финно-угорского населения (к происхождению лексемы варака это относится абсолютно точно [8: 21]). Наконец, история региона находит отражение в названии Государська дорога , которое составитель словаря зафиксировал в Нюхче с комментарием «до сих пор известна в народной памяти».
При широком понимании фразеологии этот материал также привлекается исследователями в качестве источника изучения культурной семантики (см., например, [1]), однако в данной работе мы решили остановить внимание прежде всего на тех устойчивых выражениях, которые фиксируются в словаре и являются по своему значению результатом переосмысления одного или нескольких иисходных компонентов, входящих в их состав. Сам собиратель в комментариях к этим речевым оборотам использует такие лексемы, как «обозначение», «выражение», «термин», «прозвище», пользуется описательными конструкциями «так говорится о…», «говорится, когда…»: « Мама́й воева́л . Обозначение крайнего и полного беспорядка, хаоса. У их в избе как Мама́й воевал: все раскидано, изломано и прибито . Повс.» (Дуров: 216).
Приведенный пример, помимо прочего, указывает на то, что И. М. Дуров не ставил своей целью разграничение общеупотребительной и собственно поморской фразеологии, в связи с чем в своем словаре он зафиксировал немалое количество общерусских идиом, таких, например, как бить баклу́ши, брать силком, быть в беды́, ложи́ться в дре́ф, во весь го́лос, в поми́ну нет, кри́вить душо́й, кот напла́кал, зуб на́ зуб не попада́т, кум королю́ и некот. др. Несмотря на отдельные формальные отличия, которые можно заметить (в беды, дреф, попадат), у всех этих выражений в словаре указываются теже значения, что и в литературном языке.
Однако на общерусском фоне в словаре выделяется объемный пласт фразеологизмов, которые представляют собственно поморскую речевую культуру. См., например, устойчивые выражения со словом глаз , неизвестные литературному языку: « глаза да глазища , говорится, когда требуется особо бдительный надзор и наблюдение; глаза дома оставил говорится о человеке, ничего не видящем перед собою в темноте сразу же при выходе из помещения с ярким светом; глаза по ложки , глаза по луковицы – взгляд, выражающий беспредельную радость, восторг или, наоборот, страх, видимый ужас» (Дуров: 75); до выпуча глаз «до полного изнеможения. До выпуча глаз мы сегодне тащили на себе из лесу домой волоцюгу дров » (Дуров: 100).
Предсказуемо, что значительную группу в словаре поморов составляют устойчивые обороты, связанные с морским промыслом. К ним, например, можно отнести такое выражение, как Егорей в укорци смотрит / Егорей в укорци сел . Это означает, как комментирует собиратель, что «весна надвигается, а ничто из весеннего инвентаря и экипажей не подготовлено, не приготовились к весенним работам и к промыслам на Белом море» (Дуров: 109). Культурная семантика этого фразеологизма объясняется связью с празднованием дня Святого Георгия (Егория) по православному календарю (23 апреля по ст. ст. / 6 мая по нов. ст.), наступление которого у поморов (и шире – на Русском Севере) считалось началом весны и сопровождалось отправлением на очередной рыбный промысел (см. егорьевска сельдь – Дуров: 110). Внутренняя форма этого выражения достаточна прозрачна: сам святой с укором смотрит на нерасторопных промысловиков или хозяев, напоминая им наступлением памятной даты о необходимости приступать к ежегодным сезонным работам.
К поморским образным выражениям, связанным с морем и добычей рыбы, также необходимо отнести такие фразеологизмы, как берега кисельные ‘богатые рыбою прибрежные заливы моря, промысловые губы в заливе моря’ (Дуров: 28); дружитьце к берегу ‘плывя на паруснике, держаться берега, идти около берега’ (Дуров: 106); ветренный гость «говорят о прибывшем с моря, а не с сухого пути, госте. Ветренными гостями называются также ожидаемые семьею помора добытчики-рыбаки, возвращающиеся с морских дальних промыслов – с берегов Мурмана и Новой Земли. Ветренным гостем может быть также и случайно прибывший издалека неожиданный родственник или случайный проезжий, остановившийся на квартире в доме» (Дуров: 53).
Упоминание ветра в последнем примере свидетельствует о значимости для сознания поморов погодных факторов и связанных с ними природных явлений, в особенности это касается ветра и воды (моря) – двух основных стихий, наиболее для него близких. См. примеры: ветер духами / тороками припадат ‘чрезвычайно сильный ветер на море, дующий неправильно, порывами; шквал поры вами’ (Дуров: 52), ветер в зубы ‘встречный ветер’ (там же), ветер пал на стречу (там же), солнце пришло на ветер , то есть «cолнце поравнялось с каким-либо из румбов компаса, определяющих то или иное направление ветра. Вследствие этого получается возможность определить точное время, так как каждый румб согласован с часами дня и ночи. Повс.» (Дуров: 384). Нередко в этих выражениях ветер одушевляется (см. выше ветер пал, ветер припадат ). О порывистом сильном ветре поморы говорят: « Загуди́л батюшко. Перен. О ветре: усилился, прорезая свистом по снастям судна. Повс.» (Дуров: 126). Именование батюшко из сферы родственных отношений недвусмысленно указывает на почитание ветра поморами, их уважительное отношение к этой стихии, стремление через выражение почтительности получить ее расположение и помощь.
В ряду фразеологизмов, характеризующих морской промысел в словаре И. М. Дурова, также обращают на себя внимание несколько любопытных выражений со словом гурей, «употребляемым для обозначения полного неулова на промысле, в выражениях гурья спробовал <…> с гурьем выехал, гурья справил, с гурьем вернулся», то есть «ловил, потратил время, а ничего не добыл. Ничего не попало. и т. п.» (Дуров: 91). К проблеме культурно-семантической реконструкции этих идиом обращаются известные исследователи Е. Л. Березович и И. И. Муллонен [2]. Они отмечают, что слово гурей / гурий употребляется на Русском Севере по сей день, о чем свидетельствуют экспедиционные записи авторов в Онежском районе Архангельской области (2018) и Терском районе Мурманской области (2021). И до сих пор в этих местах это слово используют для обозначения ‘кучи камней, служащей ориентиром в промысловой деятельности (главным образом, рыбной ловле)’. Сходное определение оно получает в словаре В. И. Даля: арх. гýрей, гýpий ‘темный маяк или мар, знак, сложенный на берегу из камней, для приметы становища’ [4: 408]. Анализируя, каким образом оказались связаны значения «каменный ориентир» и «промысловая неудача» (см. примеры у И. М. Дурова), исследователи предлагают обратить внимание на толкование гурия в словаре А. О. Подвысоцкого: «Гýрей, гýрий, гýрья – помор. род столба из накладываемых одни на другие диких камней. Промышленники складывают гурьи на морском берегу для обозначения места, где промышляли. В с. Кандалакше, на западном берегу Белого моря, в Кем. у., неудачных ловцов во время сельдяного промысла заставляют в шутку целовать гурей» [9: 36]. В итоге здесь «обнаруживается такая мотивация: раз не поймал ничего, тебе достается единственное, что есть на морском берегу, –“дикие камни”, т. е. гурий» [2: 29].
Важно отметить, что мировосприятие помора-промысловика, проводящего бо́льшую часть жизни в общении с морской стихией, закономерно находит отражение и в сферах, далеких от его основных занятий. Так, например, «морские» образы могут стать основой для внешней характеристики человека: « Как му́ха в па́руси. Говорится в насмешку о человеке, одетом в слишком просторную, не по себе сшитую одежду, не соответствующую вообще фигуре и не модную по покрою; о женщине в очень длинной и широкой юбке или сарафане. Сум.» (Дуров: 159); « Безно́га гага́ра . 1. Говорят про хромых. 2. Человек с ампутированною ногою. 3. В насмешливом смысле о человеке, имеющем нетвердую развинченную, ковыляющую походку, слабоногом от природы или вследствие болезненного состояния. Повс. (Дуров: 26)».
Фразеология, представленная в словаре И. М. Дурова, позволяет также судить о материальном благосостоянии жителей Поморья. В этом отношении показателен комментарий, который И. М. Дуров дает к таким выражениям, как калика / калика перехожа : «В прежние годы из бывшей Олонии (из Каргопольского и Вытегорского уездов) ежегодно с наступлением зимы на Беломорье наезжали старики, старухи, дети и даже взрослые побираться Христовым именем, нарядившись в лохмотья. Разъезжают эти калики на своих клячах из села в село, собирают в каждом доме милостыню (мукой, хлебом, одеждой, рыбой и деньгами), распевая стихи духовного содержания об Алексее человеке Божьем, Архангеле Гаврииле и другие» (Дуров: 159). Упоминание именно пришлых «калик» позволяет сделать вывод, что такой способ прокормиться поморами не практиковался. О сравнительном благополучии региона также свидетельствует массовость и регулярность совершаемых нищими «паломничеств», а также перечень материальной помощи (не только хлеб, но и одежда, рыба, деньги), которую оказывали здесь нуждающимся.
Заключение
Проанализированный в исследовании материал показывает, что, несмотря на общерусскую основу, в поморских говорах фиксируются устойчивые обороты, в которых запечатлелись реалии и образы, неизвестные литературному языку. В силу специфики хозяйственной деятельности поморов, их жизни, протекающей преимущественно во взаимодействии с морской природой и ландшафтом, поморская фразеология имеет отличительные черты и на севернорусском диалектном фоне, отражающем материальную и духовную культуру крестьянина-земледельца. Изучение поморской фразеологии должно быть продолжено на материале других севернорусских диалектных словарей.