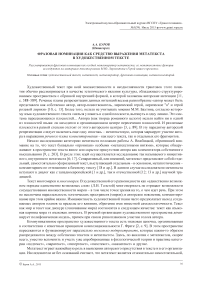Фразовая номинация как средство выражения метатекста в художественном тексте
Автор: Буров Александр Архипович
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Текст как сложное многоаспектное образование и его критерии
Статья в выпуске: 5 (39), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается фразовая номинация как особый метаоператор метатекста; ее метатекстовые функции исследуются на материале текста романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
Художественный текст, метатекст, метаоператор, фразовая номинация, метакомментарий
Короткий адрес: https://sciup.org/14822289
IDR: 14822289
Текст научной статьи Фразовая номинация как средство выражения метатекста в художественном тексте
Начало исследованию категорию метатекста положили работы А. Вежбицкой, обратившей внимание на то, что текст буквально «пронизан» особыми «метатекстовыми нитями», которые обнаруживают в пространстве текста явное или скрытое присутствие автора как комментатора собственного высказывания [9, с. 203]. В русле этих идей осуществляется исследование так называемого иннектив-ного, внутреннего метатекста [6; 17]. Сепаративный, или внешний, метатекст представляет собой отдельный, самостоятельно оформленный текст, выступающий отдельным – в основном, метапоэтическим – комментарием по отношению к базовому тексту [18 и др.]. В данном случае исследователи метатекста вступают в диалог как с западноевропейской [1 и др.], так и отечественной [12; 13 и др.] научной традицией.
Текст многомерен и многомирен. В художественной его разновидности как «единственно возможном порядке единственно возможных слов» (Л.Н. Толстой) многомерность не отрицает возможности сосуществования множественности миров – в том числе точек зрения на то, о чем идет речь. При этом не исключена параллельность эстетических пространств (миров); и авторское пояснение, комментирование при этом крайне важно. Имманентность художественной ткани часто предполагает выход создаваемых автором планов за пределы его влияния, обретение ими известной самодостаточности. Текст как мир и текст как дискурс (означивание мира) соотносятся в следующем качестве: текст как языковая картина мира vs языковая личность. В речевой организации художественного пространства доминирует полифоническая модель, причем при самом разноплановом участии голоса автора.
Коммуникативное пространство художественного текста есть знаковая цепочка, организованная в соответствии с известным принципом композициональности Г. Фреге [2, с. 9]. В этом пространстве пересекаются и функционируют параллельно несколько подпространств , которые каким-то образом распределяются между собственно текстом и метатекстом. Здесь, по аналогии с метатекстом, скорее всего, уместно вспомнить и учесть уже апробированные в филологической теории и практике категории «подтекст», «паратекст», «гипертекст», «гипотекст», «квазитекст» и другие.
Метатекст играет важнейшую роль в выявлении авторского присутствия в тексте и в его организации. Исследователи не без оснований считают, что метатекст является относительно самостоятельной, формализованной структурой, внутренней «рамкой», обрамляющей основной текст и репрезентирующей данные о внутритекстовых и межтекстовых связях, о текстовой организации в формальном аспекте, о линейном развертывании текста. В конечном счете, метатекст всегда ориентирован на адекватное восприятие адресатом комментируемого текста, способствуя: а) осознанию истинности смысла текста, его видимых и скрытых «линий» семантики; б) выявлению его связности, то есть того, что мы рассматриваем в качестве качественного приращения пространственности, которое делает структуру эстетическим целым; в) определению тех «деталей», элементов структуры, которые обусловливают саму корреляцию «текст – метатекст» и рекуррентность ее составляющих; г) формулировке того нравственного начала, которое делает для нас пространство текста ценностным независимо от того, адекватно оно воспринимается или нет, – здесь первична имманентная индивидуальность восприятия.
Вполне понятно, что речь здесь идет о тексте художественно-литературном. Обратим внимание и на следующее обстоятельство: данное комментирование может иметь самый разнообразный характер – быть намеренным или спонтанным, непроизвольным; выделяться в особое сопутствующее пространство – отдельный текст [18, с. 5] или быть включенным в основную текстовую ткань; принадлежать автору-нарратору или авторскому герою и др. Категории «текст», «метатекст» («комментарий к тексту») и «автор» тесно переплетены, взаимообусловлены. Если при этом учесть, что автор – это языковая личность, которая жестко структурирована (фреймирована), то вполне естественно встает вопрос, каковы собственно речевые средства метатекстового (комментирующего) плана, в чем их структурно-семиотическая специфика и какова роль автора в их употреблении, а значит – и в формировании метатекстового подпространства текста, его авторской метамодальности [16, с. 103].
В художественном произведении языковые средства используются в специфической функции – образно-эстетической. В тот момент, когда исследователь обнаруживает элементы автокомментирования в художественном тексте, их следует относить к метатекстовой парадигме. Художественный текст включает, в частности, элементы, которые отвечают за метакомментирование номинации, иначе – языкового кода высказывания, что рассматривается как частный аспект речевой деятельности, к которому сводима рефлексия говорящего: текст является «средой существования» метатекста.
Одним из метатекстовых средств, активно проявляющихся в художественном тексте, мы считаем фразовую номинацию как одно из проявлений синтаксической номинации.
Фразовая номинация (далее – ФН) достаточно основательно проанализирована как в грамматикокогнитивном, так и в художественно-изобразительном аспекте в целом [4–6 и др.]. В основе данного развернутого номинативного средства лежит местоименно-соотносительная модель, позволяющая назвать денотат описательно [14], напр., у Лермонтова: Это письмо будет вместе прощаньем и исповедью: я обязана сказать тебе всё, что накопилось на моём сердце с тех пор, как оно тебя любит... (Княжна Мери). Отметим, что метатекстовые функции фразового обозначения изучены в значительно меньшей степени [см.: 7].
Сразу же следует сказать, что сама природа ФН связана с дейксисом – местоименной указатель-ностью на явление или вещь – в ее живом или неживом проявлении и существовании, – но только с указанием. Наметить – не значит назвать. Это, скорее, – намекнуть, вступив в игру смыслов и их авторских интерпретаций. Сказанное весьма показательно для текста с психологическим вектором анализа, в частности – для лермонтовского. М.Ю. Лермонтов мастерски обыгрывает разнообразные свойства ФН, в том числе и метатекстовые. Отметим некоторые случаи данного употребления, позволяющего автору решить важные метаизобразительные функциональные задачи.
Во-первых, это типичное для употребления ФН авторское обобщающее перефразирование как описательная номинация каких-либо предметов или явлений. Ср.: Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе; в моих руках осталась ещё толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою (Журнал Печорина. Предисловие). Здесь присутствует чисто информативный момент – автор включает необходимый, с его точки зрения, комментарий к информации, вносимой в повествование.
Подобные метаупотребления ФН – самые элементарные в художественном тексте. Мы называем данную функцию номинационно-синонимической – ввиду легкости синонимизации ФН со словом или словосочетанием. Ср.: Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил ... (Княжна Мери). Ср. : ... для тех, кого любил...=...для любимых. Однако и здесь допустимы варианты, например: ... для возлюбленных. Похожий пример: Тот, кто будет ранен , полетит непременно вниз и разобьётся вдребезги... = раненый. И – как сравнение – собственно номинативное употребление ФН: - Утверждаю, что нет предопределения, - сказал я, высыпая на стол десятка два червонцев - всё, что было у меня в кармане (Фаталист). Подобная метафункция позволяет автору (Лермонтову) – в данном случае говорящий является его героем Печориным – употребить описательное обозначение в тех случаях, когда лексическая номинация денотата невозможна, и невозможна именно с точки зрения автора текста.
Во-вторых, следует выделить употребление ФН в целях развернутой метахарактеристики (часто – это самохарактеристика): Тот, кому случалось, как мне, бродить по горам пустынным и долго-долго всматриваться в их причудливые образы, и жадно глотать животворящий воздух, разлитой в их ущельях, тот конечно, поймёт моё желание передать, рассказать, нарисовать эти волшебные картины (Бэла). Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки (Журнал Печорина. Предисловие).
В-третьих, отметим принципиально особое – риторико-эвфемистическое употребление: Многим все вообще эпитафии кажутся смешными, но мне нет, особенно когда вспомню о том, что под ними покоится (Княжна Мери). Здесь мы наблюдаем случай игры в деэвфемизацию – дисфемизация, по некоторым источникам [cр.: 15]. Категория одушевленности / неодушевленности, имеющая строгое выражение в русском языке (корреляция кто – что ), в составе ФН получает возможность выразить так называемые «пограничные состояния» во внутреннем мире человека. Сравним еще пример: В этой напрасной борьбе я истощил и жар души и постоянство воли, необходимое для действительной жизни; я вступил в эту жизнь, пережив её уже мысленно, и мне стало скушно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге (Фаталист).
Риторический пафос слов героев в изображении Лермонтова может быть окрашен в «пустые» тона и оттенки, и благодаря авторскому метакомментарию мы чувствуем данный момент. Ср.:
- Вы меня мучите, княжна, - говорил Грушницкий: - вы ужасно переменились с тех пор, как я вас не видал…
- Вы также переменились, - отвечала она, бросив на него быстрый взгляд, в котором он не умел разобрать тайной насмешки.
– Я? я переменился?.. О, никогда! Вы знаете, что это невозможно! Кто видел вас однажды, тот навеки унесёт с собою ваш божественный образ…
– Перестаньте…
– Отчего же вы теперь не хотите слушать того, чему ещё недавно, и так часто, внимали благосклонно?..
- Потому что я не люблю повторений, - отвечала она, смеясь... (Княжна Мери).
В данном тексте оба ФН решают задачи не только текстообразования, но и метатекстового комментария – от намека до риторического обобщения. Вместе с тем, очевиден их игровой пафос, наигранно-риторический – в устах Грушницкого, и подслушивающий Печорин не может не удержаться, чтобы не воспроизвести это в своем дневнике в должном метаоценочном ракурсе.
В-четвертых, намечается позиция, связанная с метатекстовым употреблением ФН у Лермонтова, когда автору необходимо дать внутреннюю психологическую характеристику какого-то лица – обычно это персонаж, внутренний мир которого интересует или просто занимает говорящего. Сравним микропортретную зарисовку внешности доктора Вернера: Его наружность была из тех, которые с первого взгляда поражают неприятно, но которые нравятся впоследствии, когда глаз выучится читать в неправильных чертах отпечаток души испытанной и высокой (Княжна Мери). Пространство ФН дает возможность писателю словами Печорина варьировать разными деталями и ракурсами смысловых оттенков. В данном случае когнитивно-метаоценочный план формируется за счет контекстной контрпозиции («в неправильных чертах отпечаток души испытанной и высокой»).
Следовательно, ФН выступает в художественно-литературном тексте одним из самых богатых и интересных изобразительных средств метатекстового самораскрытия языковой личности автора. Лермонтов уже почти 200 лет назад сумел обозначить для русского языка, его языковой картины мира и языковой личности автора определенные психолингвистические приоритеты [8]. Благодаря автору романа «Герой нашего времени» они позволяют сегодня анализировать и структурировать пространство художественного текста как многослойный феномен, характеризующийся в том числе и метатекс-товым слоем.
Список литературы Фразовая номинация как средство выражения метатекста в художественном тексте
- Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1994.
- Богуславский И.М. Сфера действия лексических единиц. М.: Языки русской культуры, 1996.
- Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975.
- Буров А.А. Субстантивная синтаксическая номинация в русском языке: автореф. дис.. д-ра филол. наук. Ставрополь, 2000.
- Буров А.А. Когниолингвистические вариации на тему русской языковой картины мира. Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2003.
- Буров А.А. Субстантивная синтаксическая номинация в русском языке. Пятигорскс -Ставрополь: Изд-во «Академический проект», 2012.
- Буров А.А., Кулага О.В. Метатекст, метамодальность и средства их выражения в художественном тексте//Экономические и гуманитарные исследования регионов. Ростов-на-Дону, 2013, № 3. С. 64-74.
- Буров А.А. Лермонтовский текст: континуум торжества одиночества//М.Ю. Лермонтов в ХХI веке. Антология. Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2014. С. 62-64.
- Вежбицка А. Метатекст в тексте//Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8: Лингвистика текста. М.: Прогресс, 1978. С. 402-421.
- Емельянова О.Н. Авторская речь//Стилистический энциклопедический словарь русского языка. М.: Флинта-Наука, 2003. С.13-14.
- Кожина М.Н. Художественный стиль речи//Стилистический энциклопедический словарь русского языка. М.: Флинта-Наука, 2003. С. 594-608.
- Лотман Ю.М. Текст в тексте//Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб: Академический проект, 2002. С.58-78.
- Лукин В.А. Художественный текст. Основы лингвистической теории и элементы анализа. М.: Флинта, 1999.
- Максимов Л.Ю. Многомерная классификация сложноподчиненных предложений в тексте/Ред. А.А. Буров и К.Э. Штайн. Ставрополь-Пятигорск: Изд-во «Академический проект», 2011.
- Сахно О.С. Фразовая номинация как средство речевой эвфемизации (на материале языка русской художественной литературы ХIХ-ХХI вв.).автореф. дис.. канд. филол. наук. Таганрог, 2006.
- Фрикке Я.А. Фразовая номинация как средство выражения языковой личности автора художественного текста. Пятигорск: ПГЛУ, 2004.
- Шаймиев В.А. Метатекст и адекватное восприятие текста//Аспекты речевой конфликтологии/Под ред. С.Г. Ильенко. СПб: РГПУ, 1996. С. 58-62.
- Штайн К.Э. Метапоэтика: «размытая» парадигма//Узоры ковра. «Textus», вып.4, ч. I. СПб. Ставрополь: СГУ,1999. С. 5-14.
- Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени: Стихотворения. Поэмы. Роман. М.: Эксмо, 2006.