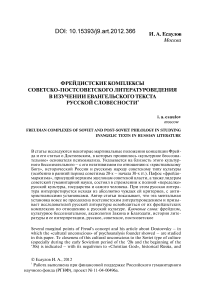Фрейдистские комплексы советско-постсоветского литературоведения в изучении евангельского текста русской словесности
Автор: Есаулов Иван Андреевич
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.10, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются некоторые маргинальные положения концепции Фрей- да и его статьи о Достоевском, в которых проявилось «культурное бессознательное» основателя психоанализа. Указывается на близость этого культурного бессознательного – с его негативизмом по отношению к «христианскому Богу», исторической России и русскому народу cоветскому типу культуры (особенно в ранний период советизма 20-х – начала 30-х гг.). Пафос «фрейдо-маркизма», присущий верхним эшелонам советской власти, а также лидерам советской гуманитарной науки, состоял в стремлении к полной «переделке» русской культуры, государства и самого человека. При этом русская литера- тура интерпретируется исходя из абсолютно чуждых ей критериев, с анти- христианскими установками. Автор статьи показывает, что эта ментальная установка вовсе не преодолена постсоветским литературоведением и призывает исследователей русской литературы освободиться от их фрейдистских комплексов по отношению к русской культуре.
Фрейдизм, культурное бессознательное, аксиология закона и благодати, история литературы и ее интерпретации, русское, советское, постсоветское
Короткий адрес: https://sciup.org/14748849
IDR: 14748849
Текст научной статьи Фрейдистские комплексы советско-постсоветского литературоведения в изучении евангельского текста русской словесности
-
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект № 11-04-00496a.
Russian people. Te afectedness of «Freudian Marxism» characteristic of the higher echelons of Soviet rule, as well as of the leaders of Soviet humanities, consisted in the aspiration for the complete «remake» of Russian culture, state, and the very Russian man. Russian literature in this case is interpreted based on criteria with anti-Christian attitudes that are absolutely foreign to it. Te author of this paper demonstrates that this mental set is not overcome at all by the post-Soviet philology and is calling Russian literature researchers to free themselves from their Freudian complexes in regards to the Russian culture. Key words: Freud’s complexes studies, cultural subconsciousness, axiology of Law and Grace, history of literature and it’s interpretations, russian, soviet, post-soviet.
В нимательное чтение ряда научных работ, в которых так или иначе затрагивается христианское основание отечественной словесности и бытование евангельского текста в произведениях самых разных рус ских писателей наводит на мысль, что и у исследователей существует некая духовная матрица, далеко не всегда ими отчетливо формулиру емая, но почти всегда подразумеваемая, какая то ментальная основа для весьма специфического истолкования православного типа культу ры. Для того чтобы понять хотя бы отчасти эти установки, обратимся вначале к известному труду основателя психоанализа.
Известно, что статья Зигмунда Фрейда «Достоевский и отце убийство»2 базируется на скудном фактографическом материале, ко торый устарел уже в момент публикации самой работы. Совре менное достоеведение располагает бесконечно большей совокупностью фак тов о жизни Достоевского, нежели те скудные обрывки биографии, на основании которых развертывал свою аргументацию Фрейд. Однако факты ли явились основанием для выводов Фрейда? Или его некоторые априорные установки?
Если предположить последнее, то, в таком случае, что это за установ ки? Осознавал ли – рационально – сам Фрейд эти установки, которым он следует, приступая к Достоевскому? И если не осознавал, или, сфор мулируем осторожнее, не рефлексировал – какую позицию занимает он сам, интерпретируя Достоевского, то вправе ли мы ставить перед собой такую задачу: выявить те модели бессознательного культурного поведе ния, которые лежали в основе его истолкования Достоевского?
Полагаю, что вправе. Не только потому, что эти установки, хотя и не имеют специально литературоведческого характера, легли в осно ву советского достоеведения, но и потому что подобные же установки имеют характерное постсоветское продолжение, причем некоторые влиятельнейшие деятели постсоветской Российской Федерации не стес няются их декларировать, как не стеснялись их декларировать деятели советские, рассуждая, подобно Ленину, об «архискверном Достоевском». Укажу лишь на слова всесильного топ менеджера всея Руси Анатолия Чубайса, который поведал Financial Times в 2004 г., что он «перечитал всего Достоевского» и теперь к этому человеку не чувствует ничего, кроме «почти физической ненависти» и что ему хочется «разорвать Достоевского на куски»3.
Однако же задолго до этого Виктор Шкловский в речи на Первом съезде Союза писателей в 1934 г. заявил, что, появись на этом съезде Достоевский, «мы могли бы его судить как наследники человечества, как люди, которые судят изменника…»4 Так что Достоевскому повезло не дожить до эпохи Шкловского, иначе он бы вторично пошел по этапу, а учитывая известную всем «мягкость» советского правосудия, вряд ли отделался бы в этом случае лишь только сибирской каторгой.
В работе основоположника психоанализа уже вполне заявлена та культурная несовместимость ряда ментальных доминант, которая, например, затем разовьется в культурной несовместимости России и СССР, русского и советского. Сегодня уже нет смысла специально доказывать, что труды Фрейда оказали громадное воздействие не толь ко на советскую науку раннего периода (особенно ее верхний эшелон), но мощно резонировали глубинным установкам вождей большевизма, которые надеялись синтезировать Маркса и Фрейда с целью полной «пе ределки» русской культуры, государства и самого человека5.
Более всего интересна не логика линейного развертывания аргу ментации Фрейда – она слишком легко может быть оспорена, а другое: некоторые «оговорки» Фрейда, как будто «необязательные» его ком ментарии и рассуждения, которые позволяет себе Фрейд, обосновывая свою гипотезу о желаемой Достоевским смерти его отца. Эти фигуры речи не столько способствуют пониманию психологии Достоевского, сколько характеризуют бессознательное самого Фрейда, согласно его же собственным методологическим установкам. Меня интересует не инди видуальное бессознательное Фрейда, а его культурное бессознательное, причем не в том ракурсе, в котором сultural Unconscious истолковывали в свое время французские постструктуралисты, например Жан Лакан, а существенно иначе. Необходимость концепта «культурное бессозна тельное» я постарался обосновать в своих работах последнего десяти летия6, при этом одной из смысловых опор концепта в предложенном мною понимании явились высказывания самого Достоевского, напри мер, следующее: «...инстинкт… Церкви и неустанная жажда ее, иной раз даже почти бессознательная, в сердце многомиллионного народа нашего несомненно присутствуют»7. Или вот это:
Можно очень многое знать бессознательно… <…> Говорят, русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных правил веры. Конечно так, но Христа он знает и носит в сердце своем искони… <…> Но сердечное зна ние Христа и истинное представление о Нем существует вполне. Оно пере дается из поколения в поколение и слилось с сердцами людей8.
Это культурное бессознательное следует отличать и от индивиду ального бессознательного, которое ввел сам Фрейд, и от коллективно го бессознательного, разработанного Карлом Юнгом. Хотя юнгианский архетип, переосмыслив, я и использую в собственных интерпретациях в собственных целях. Речь идет о неких культурных матрицах, культур ных силовых линиях, которым следует тот или иной автор, в художе ственных или нехудожественных текстах, зачастую этого совершенно не осознавая.
В нашем случае крайне интересно то, что «намерение» Достоев ского убить отца и его «муки совести» из за этого самим Фрейдом проециру ются на другие сферы: на отношение Достоевского к государственной власти в России и его отношение к вере в Бога. Что же инкриминиру ет Фрейд Достоевскому? Бесславный «конечный итог его нравствен ных борений»9. Но в чем «бесславность»? Достоевский «возвращается к подчинению мирским и духовным авторитетам, к поклонению царю и христианскому Богу, к черствому русскому национализму, к позиции, к которой менее значительные умы приходили с меньшими затратами сил» (285).
Достоевский, согласно Фрейду, « упустил возможность стать учите лем и освободителем человечества, он присоединился к его тюремщикам » (285). Раз так, то «будущая культура человечества окажется ему немногим обязана» (285). Здесь Фрейд говорит прямо таки словами нашего Шкловского, который почему то считал именно себя предста вителем этой «культуры человечества», но не Достоевского. И, более того, как уже было отмечено, полагал, что, как настоящий предста витель культуры человечества, он имеет право судить Достоевского как «изменника».
Итак, «неудача» Достоевского, по Фрейду, обусловлена именно его положительными коннотациями по отношению к трем параметрам куль туры России: государственному устройству (царю), вере (христианскому Богу) и русскому народу. Поскольку у Достоевского позитивное отноше ние к царю, Богу и народу, то это и означает, по Фрейду, что Достоевский «присоединился к тюремщикам», это означает, что конечный пункт его пути «достаточно бесславный», что Достоевский – «неудачник» (285).
Согласно этой логике, если бы у Достоевского было негативное от ношение к царю, христианскому Богу и русскому народу, то тогда ему бы был открыт «путь апостольский» (286), он бы мог стать «учителем и ос вободителем человечества» (285).
Советское литературоведение тоже очень любило «поговорить» об « освобождении », не уточняя при этом, кто именно «освобождается», от кого (или чего ) «освобождается» и зачем «освобождается»; например, рассуждая о трех этапах «освободительного» движения в России, так же в своем культурном бессознательном понимая это «освобождение» как непременное «освобождение» от Бога и царя.
Что касается «народа», то нужно иметь в виду: большинством русско го народа являлось крестьянство. Поэтому насильственный загон этого крестьянства в советские резервации – «колхозы и совхозы» – можно рассматривать и как своего рода «освобождение» от народа. Достаточно вспомнить книгу Максима Горького о русском крестьянстве, вышед шую в Берлине в 1922 г., а также апологетику советских концлагерей системы Беломорканал деятелями советской литературы и культуры: печально известную книгу о фабриках смерти редактировал все тот же «буревестник революции». Согласно логике книги Горького, это самое косное крестьянство следует – для его же пользы – обязательно загнать в резервации, иначе прогрессивная Революция обязательно захлебнется в этой косной русской народной стихии и потерпит поражение.
В этом смысле архискверный Достоевский был против «освобо ждения», как формулировал Фрейд – « с тюремщиками »… Можно констатировать, что Достоевский был явно болен, раз не захотел стать «освободителем» – в определенном смысле слова – или быть с «осво бодителями». Но болен был не только Достоевский.
В начале своей работы, рассуждая о «сделке с совестью», которую со вершает морально сомнительный Достоевский, Фрейд внезапно заявля ет, что, «скорее всего, такая сделка с совестью – типично русская черта » (285). Это обобщение совершенно неожиданное – и, вообще говоря, не продиктовано логикой развертывания работы. По видимому, мы имеем дело с каким то особым психозом Фрейда. Но не будем вникать в психические травмы основателя психоанализа, а попытаемся рассмо треть эту оговорку (или столь глобальное обобщение) в другом контекс те понимания, именно как выражение его культурного бессознательного.
Что имеется в виду под «сделкой с совестью»? Последовательность греха и покаяния (раскаяния), т. е., нужно признать, основа основ по вседневной жизни христианина. Для Фрейда эта основа повседневной жизни странна и непонятна: как он пишет, «кто… попеременно то гре шит, то в раскаянии берет на себя высоконравственные обязательства… слишком удобно устроился» (285).
Такого рода человек напоминает Фрейду «варваров эпохи переселе ния народов, которые убивали и каялись в этом, так что покаяние ста новилось всего лишь приемом, содействующим убийству» (285), потом Фрейд вспоминает Ивана Грозного, который, с его точки зрения, «вел себя так же, не иначе» (285). А заканчивает именно тем, что не только варвары и душегуб Иван Грозный таковы, но таковы и вообще русские, раз это «типично русская черта».
Иными словами, для Фрейда грех и последующее покаяние, как уже подчеркивалось, основа повседневной жизни любого христианина, в том числе, разумеется, и русского человека, имеет резко негативные конно тации – и квалифицируется им как «сделка с совестью».
Однако последовать «рецепту» психоаналитика и «освободиться» от этой крайне странной для него «типично русской черты» означает ни больше и ни меньше освободиться от христианской повседневности как таковой, т. е. перестать жить христианской жизнью. Именно это «освобождение» осуществлялось всей карательной мощью советского государства на протяжении всего советского периода русской истории и сопровождалось пропагандистским (идеологическим) прикрытием различных ответвлений гуманитарной науки.
Теперь вернемся к той неявной идее Фрейда, согласно которой, по клонение «христианскому Богу» и отказ от бунтарства по отношению к царской власти свидетельствуют о «бесславном итоге» нравственных усилий Достоевского. Согласно Фрейду, Достоевский в итоге «пришел не к свободе, а стал реакционером» (291). Что, в таком случае, пони мает Фрейд под «свободой»? Уж во всяком случае не свободу от греха. Это, прежде всего, бунт против русской власти, против «батюшки ца ря» (290), как иронически пишет Фрейд, и атеистическая установка (по Фрейду, Достоевский колеблется между религиозностью и атеиз мом). Итак, свобода, по Фрейду, та самая свобода, от которой «отка зался» Достоевский, – это восстание против власти и против веры. «Реакционность» же, с этой точки зрения, – позитивное отношение к су ществующей тогда власти в России и христианские убеждения писателя.
Излишне доказывать специально, что близкие Фрейду ментальные установки можно было заметить у абсолютного большинства совет ских литературоведов и историков. В сущности, они говорят на одном и том же языке, логика одна и та же; если это и не проговаривается, то лежит в основе их культурного бессознательного, предопределяя все прочие их «научные» умозаключения и выводы. Знакомясь как с сов ременными постсоветскими программами и методическими пособи ями по литературе10, так и с большинством постсоветских научных трудов, решительно невозможно сказать, что эта ментальная установка преодолена.
В качестве одного из многих возможных иллюстраций назовем статью К. А. Баршта «Религиозная мысль и научное познание в художественной сис теме Ф. М. До с то ев ского »11. С методологической точки зр ения с та тья абсолютно беспомощна. Достаточно заметить, что автор, например, инкриминирует именно мне «внедрение» категории соборности в до стоеведение, не помня, по видимому, трудов Вяч. Иванова. Забавно, что Баршт пытается заново – самым самодельным способом, что стало какой то болезнью постсоветского времени, открыть велосипед (растол ковать читателям журнала «Вопросы философии», что такое «наука»), при этом абсолютно не ориентируясь даже в исходном разграничении гуманитарного понимания в «науках о духе» и изучения в «науках о при роде», уже больше века являющегося «азбукой» для студента любого современного европейского университета.
Но и эта работа может быть по своему интересной – из за некото рых невольно проговариваемых формулировок. Вот Баршт докладывает об опасной «тенденции» описания Достоевского «как ортодоксального православного автора». Какое слово здесь является явно избыточным (синонимичным другому слову)? Вот, приводя работы В. Н. Захарова и мои, Баршт пугает читателей «православным литературоведением», отлично зная при этом о нашем негативном отношении к этому ярлы ку. Этот жанр, представленный на страницах «Вопросов философии», имеет определенное название: интеллектуальное мошенничество. Баршт договаривается до неких «политических выгод», которые сулит изуче ние Достоевского как православного автора. Мне, например, подобные занятия стоили места профессора в университете, которого я в итоге лишился. И это тоже отлично знает Баршт, а также редакция журнала, с удовольствием печатающая пасквиль.
Автор пасквиля пишет о неких злодеях, которые занимаются «обра щением Достоевского в клирика, готового встать в один ряд с право славными святыми». Кто из достоеведов таковы? Ни одного слова под тверждения. Кто то из православных злодеев «трактует Достоевского как церковного учителя»? Почему не знаю? Потому что, мягко говоря, автор пишет заведомую неправду.
Далее Баршт переходит к самодельным открытиям уровня жур нала «Безбожник» (и ментальных установок авторов времен погро ма Православия в СССР). «Философ и писатель, по определению, это “Фома неверующий”, ведь как только он вполне окончательно уверует… творчеству наступает конец», с апломбом замечает изобретатель ате истического велосипеда. Неужели сам то Баршт подобные самоделки считает «научными»?
Ополчаясь на «богословие» (именно православное, которое он не то что знает плохо, а не знает абсолютно), уполномоченный по делам выявления православного уклона в изучении литературы комиссар Баршт от имени «нашей» науки заявляет, что «филологическая наука» в нем не нуждается. О культурном уровне самого Баршта может сви детельствовать одно его заветное убеждение. Как ему представляется, всех русских писателей («русскую литературу») неплохо было бы в свое время… отлучить от Церкви. Может быть, читатель подумает, что я его разыгрываю? Вовсе нет. Процитирую полностью этот изумительный пассаж:
Художник, до тех пор, пока он художник, не может совпадать в своем по нимании истины и Бога ни с кем. Это доказывается на эмпирическом уров не, вспомним анафему, объявленную Л. Н. Толстому и не объявленную тем, кто ее заслуживал не меньше Толстого – А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, Н. М. Гаршин, Ф. И. Тютчев, А. А. Блок, Л. Н. Андреев, Ф. И. Сологуб, В. Набоков, список может оказаться слишком длинным. Собственно – это вся русская литература ….
Баршт учит русскую Церковь объявить анафему А. С. Пушкину, Н. В. Гоголю и Ф. М. Достоевскому… Чтобы ему было приятнее с ними «работать»? Какое то крайне комическое все таки нахальство. Он и в этой сфере уже «специалист»? Впрочем, именно подобное нахаль ство приводило в изумление русских людей в начальный период влады чества большевиков в СССР.
Как прекрасно показали в свое время «классики» французского структурализма, столь воинствующее неприятие некой «идеологии» означает вовсе не ее отсутствие, а то, что ее яростный критик напада ет на нее как на «чужую». Ведь в православии то Баршт видит именно и только «идеологию», как его, впрочем, и учили в СССР. Стоит, конеч но, посочувствовать автору, что именно на столь неприятной для него христианской системе ценностей базируется не только Русская Церковь, но и русская литература, русская культура. Но вот извиняться ли перед ним за то, что этот тип культуры, как на грех, основывается именно на этой, а не иной аксиологии? Вот надо бы этой негодной Церкви отлу чить предмет занятий Баршта от Православия, обеспечив ему свободу рук, а темные русские иерархи не удружили исследователю. Право, даже не знаешь, чем и помочь.
Забыв что в начале статьи он гневно упрекал некое «православное литературоведение» в том, что Достоевского «клирика» оно ставит «в один ряд с православными святыми», в конце Баршт инкриминирует православным злодеям уже что то прямо противоположное:
...каждое исследование «православного литературоведа» становится актом осуждения автора, который регулярно оказывается «плохим христи анином», а его герои – антихристами.
Вот до чего неприязнь к православной грибнице русской культуры то доводит…
Может ли подобные забавные сентенции публиковать сколько ни будь квалифицированный западный исследователь? Конечно, нет. Потому что, как правило, он обладает общей филологической культу рой. Но «у них» – Р. Барт, воспитанный на рафинированной европейской традиции, а «у нас» – К. Баршт, для которого православная культура России не вышла за пределы «Настольной книги атеиста». Почувствуйте, что называется, разницу…
Поэтому само по себе обращение к евангельскому тексту отнюдь не автоматически способствует преодолению подобных антихристи анских и русофобских установок. Одно и то же событие, изложенное как в Евангелии, так и в русской классической литературе, один и тот же текст могут быть интерпретированы абсолютно по разному, понима ем ли мы их созвучно христианской традиции, либо же мы их «изуча ем», в сущности, следуя другой традиции – традиции законников и фа рисеев. Наши итоговые выводы и оценки будут противоположны, и мы никогда не достигнем согласия, разве только если принесем Благодать в жертву Закону.
На одном полюсе – предельно деперсонифицированное, обезличен ное и овеществленное поле знаков. На другом – отсылающее к Книге ду ховное целое, которое сопротивляется навязанным извне самовольным истолкованиям, таящее в своих смысловых глубинах Слово из Евангелия от Иоанна, известное каждому русскому православному человеку по пас хальному богослужению.
Впрочем, сам то Фрейд, по видимому, иногда чувствовал, что зашел уже слишком далеко, поэтому и заметил:
Здесь мы навлекаем на себя упрек, что отказались от беспартийности психоанализа и подвергаем Достоевского оценкам, правомерным только с пристрастной точки зрения определенного мировоззрения (291).
Однако действительно ли «психоанализ» настолько безоценочен, как его подает Фрейд? Он полагает, Достоевский «принял незаслужен ное наказание от батюшки царя как замену наказания, заслуженного за грех по отношению к настоящему отцу. Вместо самонаказания он по зволил карать себя заместителю отца» (290) – и подобное поведение ха рактерно для «большей части преступников» (290), которые, по Фрейду, жаждут наказания. Что это может означать в контексте не индивиду ального, а культурного бессознательного?
С этой точки зрения, сама вера в Христа, претерпевающего добро вольные страдания и смерть, может восприниматься как особая раз новидность невроза, как своего рода скрытый мазохизм, от которого нужно «освободиться»; мазохизм, подлежащий разоблачению и обли чению. Более того. Логика поведения самого Христа (Сына) – по отно шению к Богу Отцу, с позиции основателя психоанализа, вполне может быть рассмотрена в той же самой парадигме невроза и мазохизма:
как наказание (притом, с этой точки зрения, справедливое наказание) за нарушение Закона (конечно, с точки зрения законников и фарисе ев), за преступное желание стать Богом вместо Отца, на место Отца. Внимательное чтение статьи Фрейда приводит именно к таким выводам.
Фрейд подчеркивает, что в сыне доминирует отождествление с отцом (которое, пользуясь иным культурным кодом, можно назвать нераздельностью ); что сыну «хотелось бы занять место отца, потому что он вызывает восхищение, хотелось бы быть таким, как он, и поэтому желательно его устранить» (288). Затем – правда, не здесь, а через не сколько страниц, самым прямым образом возникают отсылки к Христу (и именно там, где Фрейд рассуждает о желательной для Достоевского замене настоящего отца на «батюшку царя»):
При индивидуальном повторении хода всемирной истории он (Достоев ский. – И. Е. ) надеялся в идеале Христа найти выход и освобождение от ви новности, использовать собственные страдания для своих притязаний на роль Христа (290–291).
Если Достоевский невротик, по Фрейду, старается стать на место Христа, пострадать как Христос, ибо чувствует виновность по отно шению к отцу, то, по видимому, в культурном бессознательном Фрейда и сам Христос как Сын «чувствует виновность» по отношению к Богу Отцу. Во всяком случае, когда – еще спустя несколько страниц – Фрейд пишет о том, что «симпатия Достоевского к преступнику в самом деле безмерна , она намного превосходит сострадание, на которое несчаст ный имеет право… Для него (т. е. для Достоевского. – И. Е. ) преступ ник – почти спаситель, взявший на себя вину, которую иначе вынуждены бы нести другие »12 (292), аллюзии здесь, на мой взгляд, абсолютно прозрачны.
Если, согласно этой логике, преступником на самом деле является не только Достоевский, не только русский народ, но и сам Христос, тоже ведь не пожелавший быть в определенном смысле «освободителем», то эта логика замечательно точно вписывается в логику раннего совет ского космоса с его отчетливо выраженной антихристианской куль турной доминантой13. Не случайно же советские литературоведы, эти поклонники Фрейда и Маркса, из многих возможных выбрали два худо жественных текста, провозгласив их началом новой советской литерату ры. Самое же поразительное – или, может быть, раскрывающее их куль турное бессознательное то, что при провозглашаемом «материализме» советской культуры оба текста мистичны, но их мистика призвана заме нить существующую христианскую православную мистику. В горьков ской повести «Мать», как всегда подчеркивалось, «первом произведе нии соцреализма», герой революционер утверждает, что «Христос был не тверд духом… Кесаря признавал», а потому нужно исправить дело Христа. Это исправление, наряду с «освобождением» от христианского сознания, и составляет «воспитательную» основу горьковской повести. В блоковских «Двенадцати» традиционному историческому Христу рус ской веры и культуры противопоставлен иной – революционный – «мес сия», окруженный революционными же «апостолами»14. Именно такими «апостолами», о которых и писал Фрейд, тоскуя о том, что Достоевский, мол, отказался от «пути апостольского». Мы, обогащенные историче ской дистанцией, увы, можно сказать, знаем в лицо этих самых «апосто лов», о которых грезил Фрейд, и хотя, по Фрейду, Достоевскому «был открыт… путь апостольский» (286), но он, к счастью для русской лите ратуры и к досаде Фрейда, действительно пошел другим путем. Ну, а со ветское достоеведение пошло путем, указанным Зигмундом Фрейдом15. Так и произошло, что пути Достоевского и достоеведения несколько разминулись. Почти на сто лет. Точно так же разминулись пути русской литературы и ее советских и множества постсоветских истолкователей. Необходимо после блужданий и тупиков вернуться на столбовую дорогу русской культуры – с ее евангельскими ориентирами. Но это невозмож но сделать, не освободившись от собственных фрейдистских комплек сов – по отношению к этой культуре.
Список литературы Фрейдистские комплексы советско-постсоветского литературоведения в изучении евангельского текста русской словесности
- Фрейд З. Художник и фантази-рование. М., 1995. С. 285-294.
- http://www.rg.ru/2004/11/19/chubajs.html
- Первый Всесоюзный съезд советских писателей: Стенографический отчет. М., 1934. С. 154.
- Эткинд А. Эрос невозможного: История психоанализа в России. СПб., 1993
- Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. М., 2004.
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1984. Т. 27. С. 19.
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Л., 1980. Т. 21. С. 37-38.
- Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995. С. 285.
- Золотухина О. Изу чение русской литерат уры в пос тсове тской школе [Электронный ресурс] URL: http://transformations.russian-literature.com/izuchenie-russkoj-literatury-v-postsovetskoj-shkole
- http://vphil.ru/index. php?option=com_content&task=view&id=311&Itemid=52
- http://www.duden.de/suchen/dudenonline/erl%C3%B6ser
- http://transformations.russian-literature.com/mrakobesie
- Есаулов И. А. Мистика в русской литературе советского времени (Блок, Горький, Есенин, Пастернак). Тверь, 2002.
- Захаров В. Н. Синдром Достоевского//Север. 1991. № 11. С. 145-151.