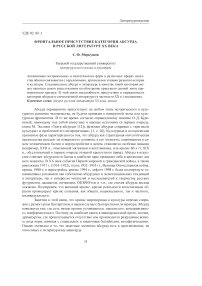Фронтальное присутствие категории абсурда в русской литературе ХХ века
Автор: Меркушов Станислав Федорович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2019 года.
Бесплатный доступ
Активизация экстремальных и синтетических форм в различных сферах искусства обычно связывается с переломными, кризисными этапами развития истории и культуры. Следовательно, абсурд в литературе в качестве такой категории может являться своего рода откликом на обострение присущего данной эпохе перманентного кризиса. В этой связи масштабность присутствия и выраженности категории абсурда в отечественной литературе (в частности ХХ в.) несомненна.
Абсурд, русская литература хх века, кризис
Короткий адрес: https://sciup.org/146281362
IDR: 146281362 | УДК: 82.161.1
Текст научной статьи Фронтальное присутствие категории абсурда в русской литературе ХХ века
Абсурд перманентно присутствует на любом этапе исторического и культурного развития человечества, не будучи привязан к конкретной эпохе или культурным фрагментам. В то же время, согласно справедливому мнению О. Д. Бурениной, имеющему под собой известные и важные источники (в первую очередь, книга М. Эсслина «Театр абсурда» [12]), феномен абсурда сопряжен с «кризисом культуры» и проблемой его интерпретации» [1, с. 26]. Культурные и исторические кризисные фазы характеризуются тем, что абсурд как структурная онтологическая предпосылка выходит на поверхность сознания, а его элементы, коренящиеся в самом человеческом бытии и мироустройстве в целом, становятся особенно явными (например, XVII в., отмеченный мятежами и восстаниями, или кризис 60-х гг. XIX в., обусловленный в первую очередь отменой крепостного права). Абсурд в искусстве отвечает абсурдности бытия и наиболее ярко проявляет себя в кризисные для него моменты. В ХХ веке события Первой мировой и гражданской войны, а также революции 1917 г. (1914–1922), голод 1932–1933 гг., Великая Отечественная война, кризис 1980-х и перестройка, кризис 1994 г., дефолт 1998 г. были подчеркнуто ознаменованы усилением как собственно абсурдных и экзистенциальных тенденций в литературе, так и интересом читателей и исследователей к творчеству русских футуристов, дадаистов, ничевоков, ОБЭРИУтов и т. п., где стихия абсурда весьма осязаема. Подчеркнем, что внешний кризис, кризис реальности естественным образом провоцирует кризис сознания, как общего, национального, так и частного, индивидуального.
Заметим в этой связи, что кризис миропорядка и культуры нередко сопряжен с разного рода бунтарством, в нашем случае с бунтарством в литературе. Абсурд появляется там, где есть мятеж против устоявшегося, закоснелого, консервативного, конформистского. Поэтому он наиболее явлен в авангардистской прозе, поэзии, драматургии, где провозглашается отсутствие или производится разрушение всякого рода норм, начиная с социальных и заканчивая бытийными, метафизическими. Однако очевидно и то, что заметные элементы абсурда есть в произведениях, не относимых к литературному авангарду.
О.Д. Буренина считает, что, являясь артефактом, характерным для художественной культуры вообще и особенно отчетливо выражающимся в ней в переломные эпохи, на российской почве «абсурд становится наиболее ярким феноменом художественной культуры первой половины двадцатого столетия, основополагающим ее признаком и доминантой мышления» именно начиная с эпохи символизма [2, с. 35]. В своей диссертации исследователь подробно рассматривает рецепцию абсурда в произведениях «старших символистов» (К. Д. Бальмонт, 3. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковский, Н. Минский, Ф. К. Сологуб и др.) и «младших символистов» (Вяч. Иванов, А. А. Блок, А. Белый и др.), а также ряда других писателей и поэтов, ориентированных на представителей символистского направления [Там же]. Отмечается, что природа абсурда и идея абсурдности бытия хорошо понималась символистами и это понимание воплощалось в особого рода «отрефлектированном “сдвиге”» в самой системе символизма. Этот «сдвиг» обусловливает «аномальность» и «неправильность» текстов по отношению к каноническим жанрам, «появляется целый ряд произведений, репрезентирующих разного рода аномалии: культурные, поведенческие, телесные и т. д.» [Там же, с. 21].
Период 1910-х гг. замечателен бурным развитием русского футуризма, императивом которого становится «бунт теории против смысла» [10, с. 127]. Анархизм мировоззрения, отрицание традиций и революция в области слова, формирование «заумного языка», эксперименты в области строфики, ритмики, рифмы – основные компоненты стратегии футуристов, использующих для ее реализации различные формы абсурда (А. Е. Кручёных, И. М. Зданевич, Велимир Хлебников, В. В. Маяковский).
Более глубинный характер носит абсурд ОБЭРИУтов («чинарей»), обыкновенно считающихся родоначальниками отечественной литературы абсурда (с точки зрения теоретического обоснования терминологического инструментария, сопровождающего категорию абсурда). Бессмыслицы футуристов и чинарей отличаются друг от друга не просто спецификой поэтических конструкций и других формальных элементов текста. К примеру, анализ стихотворений А. И. Введенского предполагает выход на металексический уровень, а затем попытку их интерпретации методами, исключающими чисто филологические. Добраться до смысла поэзии А. И. Введенского возможно путем трактовки так называемых импликатур-иероглифов [4, с. 20], которые репрезентируют эфемерность ее бессмыслицы.
Идея утраты смысла искусства, в частности поэзии, прослеживается в манифестах и творчестве ничевоков, причем их эксперименты, по мнению О. В. Вдовиченко, являются во многом предтечей абсурдистских опытов ОБЭРИУтов [3, с. 14– 15]. С точки зрения О. В. Вдовиченко, отдельные повествовательные особенности писателей реалистической традиции (исследователь называет имена М. А. Булгакова, М. М. Зощенко, Тэффи, А. Т. Аверченко) также могли явиться источником нарративных находок чинарей.
Абсурд в антиутопиях 1920-х гг. создается за счет новаций в сюжетообразующей, образной и жанрово-стилистической сферах (построение противоречивой, иллюзорной реальности «вне смысла»; актуализация представлений об антиномичной сущности человека (рассогласованность разума и чувств), антитетической рецепции исторических процессов в их экзистенциальных аспектах (конфликт восприятия свободы и несвободы, проблематика взаимосвязей «природы-культуры-ци-вилизации»), деконструкция или трансформация языка и мира, использование ко-мически-сатирической нарративной формы (Е. И. Замятин «Мы», А. П. Платонов «Чевенгур», «Котлован», М. А. Булгаков «Роковые яйца»).
В литературе русского зарубежья категория абсурда весьма рельефно эксплицировалась в творчестве В. В. Набокова. Оно проникнуто, подобно произведениям иных представителей абсурдистики эмигрантской литературы (особенно «Аполлон Безобразов» и «Домой с небес» Б. Ю. Поплавского, сочетающие элементы поэтики сюрреализма и абсурдизма), особого рода трагикомической рефлексией, предполагающей использование приемов иронической маски, «абсурда под видом нормы» [7, с. 54], чередованием многочисленных типов игры с читателем (языковой, интертекстуальной, игры с символами).
Абсурд как значимый компонент формально-содержательной структуры текста содержится в произведениях Н. Р. Эрдмана, Ю. К. Олеши, А. Б. Мариенгофа, С. Д. Кржижановского, А. П. Платонова, М. А. Булгакова, К. К. Вагинова, Л. И. До-бычина, Е. Л. Шварца, И. Ильфа и Е. Петрова. Балаганная метафоризация и нарративная (театральная, кинематографическая, цирковая) визуализация (Ю.К. Олеша «Зависть», К. К. Вагинов «Труды и дни Свистонова», Л. И. Добычин «Город Эн»), деметафоризация, доведенные до абсурда приемы пародирования, игры (понятия «псевдо» (псевдоинтеллегенция, псевдописатели, псевдоученые, псевдореволюционеры и т. п.), дворянские имена и имена литераторов, разного рода клише (И. Ильф и Е. Петров «Золотой теленок», «12 стульев», Н. Р. Эрдман «Самоубийца», М. А. Булгаков «Собачье сердце», А. Б. Мариенгоф «Циники») сближают произведения названных авторов с абсурдистикой.
Незаметно, на первый взгляд, проникает категория абсурда в литературу социалистического реализма, и прежде всего в творчество М. Горького. Так, В. Е. Го-ловчинер подтверждает наличие точек соприкосновения между драмой М. Горького и драмой абсурда, которую исследователь считает своеобразной модификацией эпической драмы «по состоянию “сознания” составляющих его индивидов, по характеру их мыслительной деятельности и поведения, поражающ<ей> воображение каскадом фрагментов-нелепостей происходящего, по своей драматургической природе» [5, с. 26], родоначальником которой считает выдающегося советского писателя.
Для эмигрантских и неофициальных прозаических текстов эпох оттепели и застоя, совершенно различных по форме и содержанию, свойственны жанрово-стилевой синкретизм, комизм посредством представления современных проблем на фоне гротескных, эксцентрических, сверхъестественных, фантастических ситуаций (А. Д. Синявский «Любимов», В. П. Аксенов «Затоваренная бочкотара»), широта охвата изображения; в них сатирически воссоздается политическая и социальная действительность (А. А. Зиновьев «Зияющие высоты»), реалистически – ад и абсурд лагерной реальности (В.Т. Шаламов «Колымские рассказы») и т. д.
Через релятивизм лирики, выражающийся в игнорировании «требуемого», «приличествуемого» как выработанной системой аксиомой в пользу вечно продолжающегося, не заканчивающегося процесса поиска и саморазвития (О. Е. Григорьев), скупость, но многоликость тропов, склонность к эксперименту, тяготение к конкретной детали, игре, гротеску, иронии, патетике (И. С. Холин, Г. В. Сапгир), приверженность авангардизму и определенная механистичность, гипертрофия отдельных композиционных и лексико-грамматических приемов (И. А. Бродский), критика номенклатурного абсурда абсурдистскими средствами – гротеск, оксюморон, антитеза, гиперболизация, архетипизация явлений (В. С. Высоцкий), – открывается абсурд в неофициальной и эмигрантской поэзии.
Конец ХХ века ознаменован в российской истории многочисленными переломными тенденциями на фоне основного – политического (и сопряженного с ним мировоззренческого) кризиса, связанного с процессом распада СССР. Специфика переломного времени заката СССР нашла свое отражение в произведениях, авторы которых стремились исследовать новое положение человека в быту, в обществе, в культуре, в природе, отталкиваясь не только от дихотомических социальных ценностей кризисной социалистической эпохи или от традиционных представлений о человеке, о социальной истории, о природе, но от их экзистенциального содержания.
Проза 1980-х гг. таких писателей, как В. Г. Сорокин, В. О. Пелевин, Е. А. Попов, В. А. Пьецух, В. А. Шаров, Т. Н. Толстая, Л. С. Петрушевская и др., воплощает обрывочность видимого мира, иллюзорность и критичность всех прежних состояний и положений советского человека, как будто стабилизировавшегося в предшествующей реальности, призрачность представлений о мире с выходом на метафизический план абсурда, материализованный в произведениях Ю.В. Мамлеева.
Необходимо указать на стремительное развитие в эпоху перестройки рок-культуры, конкретнее – рок-поэзии, источником образов для которой во многом являлся абсурд в различных своих ипостасях: и абсурд окружающей действительности (П. Мамонов), и абсурд ОБЭРИУ и футуризма (Е. Летов, О. Гаркуша, Д. Озерский), и абсурд фольклорный, балаганный и лубочный (А. Панов), и абсурд коанов и мондо дзэн-буддизма (Б. Гребенщиков).
Распад СССР, подобно Октябрьскому перевороту в свое время, явился причиной перелицовки самих оснований человеческого быта и бытия, трансформации привычного порядка и изменения правил. Такие изменения влекли за собой кризис устоявшейся картины мира, связанный с утратой коммунистических идеалов; нравственный и ценностный кризис общества, детерминированный смещением традиционных бинарных схем и понятий.
«Ощущение хаоса» для части интеллигенции не только определило мировоззренческий субстрат, но и приняло форму художественных исканий времени, модернизировало рецепцию и индикацию искусства. Об этом свидетельствует формирование в 1990-е гг. постмодернистского типа сознания с установками на новизну принципов литературного творчества, опиравшейся теперь на глобальное понимание условности мироустройства, относительности представлений о реальности и ее субъекте.
Ввиду подобных трансформаций категория абсурда 1990-х гг. в некоторых своих проявлениях начинает характеризоваться всеобъемлющим выходом за рамки не просто форм традиционного понимания письма, но и достаточно авангардистского даже для искушенного читателя творчества. Литературные произведения, публиковавшиеся, в частности, в «Митином журнале» – альманахе и издательстве, изначально представляли собой, по словам основателя и главного редактора Д. Волчека, чтение для узкого круга «ценителей нетрадиционной литературы» [6, с. 190]. «Митин журнал» ориентирован на весьма новаторские, порой сверхавангардистские произведения, иногда абсолютно не вписывающиеся в рамки официальной литературы. Между тем их можно отнести к гипернатуралистической абсурдисти-ке: так или иначе их авторы (Я. Могутин, Е. Простоспичкин, К. Решетников (Шиш Брянский), позднее – И. Масодов, М. Климова и др.) все же последовательно реализуют многие принципы и приемы как отечественного, так и зарубежного абсурда в том или ином, чаще гипертрофированном, виде (Д. Хармс, О. Е. Григорьев, У. Берроуз). Изображение немотивированного насилия у И. Масодова, к примеру, помимо очевидной функциональности, связанной с деконструкцией детского фольклора, на наш взгляд, обусловлено, как и у Д. Хармса, эстетикой «черного юмора», харак- терной для постмодернизма, в том числе и открывающей онтологические аспекты понимания текста.
С нашей точки зрения, базисная составляющая абсурда ХХ в., как ни парадоксально, заключается прежде всего в стремлении к преодолению разного рода кризисных тенденций, в стремлении к взаимопроникновению жанров, образов, смыслов, а тем самым к воплощению художественной целостности в культуре и литературе. Философы, занимавшиеся проблемами соотнесенности кризисов культуры и цивилизации, культуры и науки, культуры и мировоззрения, вопросами поиска путей форсирования кризисных ситуаций, так или иначе приходили к пониманию необходимости объединения, синтеза, кардинального поворота от укоренившегося в западном мире синдрома всеохватной отдельности, личностной фрагментации. Нарушение непременного требования связи между «внешним» прогрессом и духовным развитием человека (см.: [11]), стирание из памяти людей восприятия культуры как объединяющего метаязыка (см.: [8]), разложение моральных и духовных ценностей, обусловленное культивацией культурного упадка (см.: [9]) ведут к трансформации культуры в суррогат, увеличивающий взаимную тотальную разобщенность и отчуждение. Потому в литературе категория абсурда заметнее проявляет себя в алогизмах и «отклонениях» ОБЭРИУтов, в разорванности, дискретности и девиациях постмодернистов и т. д., однако отечественные авторы не отказываются при этом от исканий высшего порядка: Истины, Абсолюта, Единого. Реализуемый в художественных произведениях абсурда выход за пределы стереотипов восприятия, глубинный сдвиг в сознании индивида выражается как раз в синтетизме. Через «негативное подобие синтеза» [2, с. 36] происходит органически цельное смыслопорождение.
М. : Прогресс – Традиция, 1997. 416 с.
Tver State University the Center of Russian Language and Culture
Список литературы Фронтальное присутствие категории абсурда в русской литературе ХХ века
- Буренина О. Что такое абсурд, или По следам Мартина Эсслина//Абсурд и вокруг: сб. статей. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 7-75.
- Буренина-Петрова О. Д. Символистский абсурд и его традиции в русской литературе и культуре первой половины XX века: автореф. дис. … докт. филол. н.: 10.01.08/О. Д. Буренина-Петрова; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. СПб., 2005. 40 с.
- Вдовиченко О. В. Культурфилософский контекст абсурда в художественном сознании России рубежа XX-XXI вв.: на материале творчества В. Пелевина, Д. Липскерова: автореф. дис. … канд. культурологии: 24.00.01/О. В. Вдовиченко; Мордовский гос. ун-т. Саранск, 2009. 170 с.
- Герасимова А. Об Александре Введенском//Введенский А. Всё. М.: ОГИ, 2013. 760 с.
- Головчинер В. Е. Открытия М. Горького в контексте драматургических исканий эпохи. К 100-летию создания пьесы «На дне»//Вестник Томского гос. пед. ун-та. 2004. № 3 (40). С. 20-26.
- Иванов Б. В бытность Петербурга Ленинградом. О ленинградском самиздате//Новое литературное обозрение. 1996. № 14. С. 188-199.
- Пчелинцева М. А. Формы выражения комической рефлексии русских писателей-эмигрантов//Известия Волгоградского гос. пед. ун-та, 2011. № 10 (64). С. 53-56.
- Флоренский П. А. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1990. 448 с.
- Хейзинга Й. Homo Ludens. Человек играющий. Статьи по истории культуры. М.: Прогресс -Традиция, 1997. 416 с.
- Чернорицкая О. Л. Поэтика абсурда в аспекте литературно-художественной методологии: дис. … канд. филол. н.: 10.01.08/О. Л. Чернорицкая; Литературный ин-т им. А.М. Горького. М., 2001. 206 с.
- Швейцер А. Культура и этика. М.: Прогресс, 1973. 343 с.
- Esslin M. The Theatre of the Absurd. N. Y., 1961. 357 p.