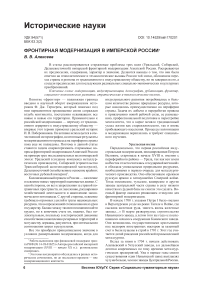Фронтирная модернизация в имперской России
Автор: Алексеев Вениамин Васильевич
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 2 т.17, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются стержневые проблемы трех волн (Уральской, Сибирской, Дальневосточной) имперской фронтирной модернизации Азиатской России. Раскрываются их предпосылки, содержание, характер и значение. Делаются выводы о том, что они были ответом на геополитические и технологические вызовы России той эпохи, обозначили переход страны и региона от традиционного к индустриальному обществу, но не завершили его, а создали предпосылки для последующих радикальных социально-экономических и культурных преобразований.
Модернизация, индустриализация, демография, урбанизация, фронтир, социально-экономическое развитие, стратегические и технологические вызовы
Короткий адрес: https://sciup.org/147151175
IDR: 147151175 | УДК: 94(571) | DOI: 10.14529/ssh170201
Текст научной статьи Фронтирная модернизация в имперской России
Понятие «фронтир» — подвижная граница введено в научный оборот американским историком Ф. Дж. Тернером, который понимал под ним перманентное продвижение своих сограждан вглубь континента, постепенно осваивавших все новые и новые его территории. Применительно к российской модернизации — переходу от традиционного аграрного к индустриальному обществу — впервые этот термин применил уральский историк И. В. Побережников. Он активно используется в отечественной историографии, но итоговые результаты модернизационного процесса на периферии страны пока еще не подведены. Поэтому в данной статье ставится задача охарактеризовать стержневые вопросы фронтирной модернизации Азиатской России на примере трех последовательных волн имперской эпохи: Уральской (создание комплекса металлургических производств), Сибирской (строительство Транссибирской железнодорожной магистрали), Дальневосточной (хозяйственное освоение крайних восточных рубежей империи)1.
Колонизационный процесс в России — заселение и освоение новых территорий оценивается двояко. С одной стороны, он вел к закреплению за страной пограничных пространств, их заселению, расширению хозяйственной деятельности и накоплению экономического потенциала. С другой стороны, освоение требовало огромных усилий и траты национальных ресурсов, что в определенной степени наносило урон государству. Баланс между такими позициями найти трудно, но в конечном счете он, видимо, был положительным, поскольку в исторической динамике способствовал накоплению резервных территорий и могуществу державы, разумеется, при оптимальном соотношении затрат и результатов.
Все это приобрело принципиальное значение в условиях развертывания модернизации, когда для
* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ (№ 14-18-01625) «Акторы российской имперской модернизации (XVIII — начало XX в.): региональное измерение».
индустриального развития потребовались в большом количестве разные природные ресурсы, которые находились преимущественно на периферии страны. Задача их добычи и переработки привела к привлечению новой рабочей силы, ее размещению, профессиональной подготовке и перестройке менталитета, что в корне меняло традиционный уклад жизни как старожильческого, так и вновь прибывающего населения. Процессы колонизации и модернизации переплелись и требуют специального изучения.
Уральская волна
Парадоксально, что первая российская индустриальная модернизация, инициированная Петром Великим, стартовала в начале XVIII в. именно с периферийного района — Урала, так как вся земля на Восток от него считалась «государевой вотчиной» и обладала уникальными природными ресурсами, необходимыми в первую очередь для металлургического производства. Оно обеспечивало оружием русскую армию в затянувшейся Северной войне. Тогда московские, тульские, каширские и другие заводы центральной части страны в силу низкого качества их рудной базы не смогли это сделать. Военный фактор оказался решающим стимулом для фронтирной модернизации.
В начале 1700 г. указами Петра I было «велено в Верхотурском уезде на реках Тагиле и Нейве, где сыскана железная руда, завесть вновь железные заводы…» В марте развернулось строительство Невьянского завода, а летом того же года «с поспе-шанием» началось сооружение Каменского завода. Они возводились государственными крестьянами под надзором иностранных мастеров за казенный счет и были пущены в строй в 1701 г. Этот год считается датой рождения российской промышленной металлургии.
Вслед за ними в 1704 г. начали действовать Алапаевский и Уктусский заводы, а в дальнейшем десятки современных по тому времени металлургических предприятий. Уже в первые годы своего существования один Невьянский завод выплавлял чугуна больше, чем все заводы Центральной России.
Если раньше основным источником энергии были мускульные усилия людей и животных, то теперь на смену им в массовом масштабе пришли водяные колеса, то есть неодушевленные силы природы, что являлось подлинной технической революцией на пути к индустриальному способу производства.
Всего на Урале в первой половине XVIII в. было построено 71 металлургическое предприятие, 33 из которых производили черный металл, а 38 — медь. Регион занял ведущее положение в горнометаллургической промышленности страны. Если в 1725 г. на Урале было выплавлено 0,6 млн пудов чугуна, то в 1750 уже 7,7 млн пудов. Во второй половине XVIII в. было построено свыше 100 предприятий. В 1800 г. на Урале производилось 7,8 млн пудов чугуна и 5,3 млн пудов железа. Россия по производству черного металла вышла не первое место в мире, обогнав Англию и Швецию, при этом Урал давал Уб русского чугуна и железа. Оно пользовалось большой популярностью на Западе, особенно с маркой «старый соболь». Восемнадцатое столетие стало «золотым веком» уральской металлургии [2, с. 203].
XIX в. оказался менее блистательным по внешним и внутренним обстоятельствам. Первое обстоятельство было вызвано тем, что в результате промышленного переворота в западных странах, особенно в Англии, их металлургия поднялась на качественно более высокий уровень, прежде всего, за счет перехода на минеральное топливо. К середине XIX в. Урал по производству чугуна и железа скатился с первого места в мире на восьмое. Второе обстоятельство порождалось крепостничеством в самой России, которое тормозило технический прогресс. То, что было преимуществом уральской металлургии в XVIII в., обернулось для нее упадком в XIX в. Урал уступил пальму первенства Южной угольно-металлургической базе страны [2, с. 204—205].
В ходе фронтирной модернизации происходила глубокая социальная трансформация: росла численность населения, менялись его социальная структура, отношение к труду и образу жизни. Проследить все изменения в кратком тексте невозможно. Остановимся на наиболее типичных и ярко характеризующих признаки модернизации, которая требовала коррекции форм собственности, социального положения, условий труда и быта участников производства.
В горнозаводском деле Урала удивительно сочеталось натуральное хозяйство, сложная кооперация производителей и капиталистическая мануфактура, а горнопромышленники были одновременно и помещиками, и заводчиками. Такого не знает европейская модернизация. Видимо, поэтому столь многочисленны в историографии попытки отлучить Россию в целом, и Урал в частности от нее. Доменная металлургия с самого начала требовала кардинального изменения характера труда по сравнению с предшествующим сыродутным производством железа, который не знал разделения труда и полностью зависел от искусства мастера. При новой технологии только в основном производстве использовались мастера 25 специальностей, а включая подмастерьев и специально подготовленных работников — свы- ше 80. В целом на горнозаводских предприятиях в XVIII в. насчитывалось около 160 специальностей разной квалификации, а с учетом вспомогательных производств — 250 специальностей [7, с. 14].
Из горнозаводского населения формировались специализированные поселения — заводские поселки, своего рода будущие «города-заводы», прототипы урбанизации. В 1807—1809 гг. они были осмотрены пермским берг-инспектором П. Е. Томиловым. Из 94 заводов и приисков Урала им было обследовано 87 предприятий. Из этого числа при 70 были поселки. В том числе, три поселка имели население более 5000 человек (Невьянск, Екатеринбург, Березовский), от 2000 до 5000 — 24 заводских поселка (в том числе Нижнетагильский, население которого приближалось к 5000), от 1000 до 2000 — 18 поселков, от 600 до 1000 — 12 поселков, от 300 до 600 — 8 поселков и менее 100 жителей имели 5 поселков [Подсчитано по: 12, с. 154—293]. В дальнейшем эти тенденции получили более широкое развитие, и к началу ХХ в. некоторые «города-заводы» переросли по численности населения губернские центры.
Модернизация вела к росту грамотности горнозаводского населения Урала, превышая среднероссийский показатель. Если накануне отмены крепостного права среди горнозаводских мастеровых грамотные составляли 7—10 %, то к началу ХX в. доля грамотных в горнодобывающей промышленности поднялась до 30, %, а в металлургической отрасли — 37,4 %, в металлообрабатывающей — 56 %. В целом по России удельный вес грамотных среди всего населения в то время находился на уровне 21 %
Горнозаводское население отличалось специфическим менталитетом, приобретенным в ходе модернизации, отличным от традиционного крестьянского. По свидетельствам современников, «сам род занятий заводских людей имеет на них развивающее влияние, вследствие чего заводской мастеровой по умственному развитию стоит выше здешнего крестьянина» [11, с. 238].
В сознании жителей Урала в ходе протоиндустриализации шла острейшая борьба между патриархальным и индустриальным, между старым и новым. «Крестьянское население считало святым делом земледельческие работы, а копание земли из-за скрывающихся в ее недрах богатств казалось занятием от лукавого, оскорблением, надругательством над землей. Напротив, люди, связанные с горным делом, считали свой труд результатом Божьего промысла, его благословением, гордились его прибылью и важностью “интересам государственным”» [7, с. 18]. Так «в домнах переплавлялись не только куски руды в металл, но и представители отдельных социальных и этнических групп в новую общность — горнозаводское население» [7, с. 22].
После отмены крепостного права процесс модернизации представлял собой классический пример эволюции старопромышленного района к условиям раннеиндустриальной модернизации, которая глубоко пустила корни не только в сфере производства, но и быта, культуры, менталитета горнозаводского населения. Однако Урал до конца имперского периода все же оставался во многом традиционным обществом, где к началу ХХ в. в сельском хозяйстве было занято 81,5% населения края, а в промышленности — 9,5 %, на транспорте — 9 % (по переписи населения 1897 г.). В 1900 г. на долю торгового оборота сельского хозяйства приходилось 60,6 %, промышленности только 39,4 % [9, с. 17]. Поэтому раннеиндустриальную модернизацию Урала нельзя считать завершенной.
Уральский металлургический комплекс убедительно демонстрирует характерную черту имперской фронтирной модернизации — военный фактор. С первых шагов он стал базой военной промышленности. С начала существования первенца уральской металлургии — Каменского завода (1701 г.) 60 % его общего объема производства составляла военная продукция. Невьянский завод тоже предназначался для военных нужд, чтобы «лить пушки и гранаты, и всякое ружье». На значимость военного фактора фронтирной модернизации обращали внимание представители даже влиятельных западных держав. Резидент австрийского императора доносил в 1710 г.: «Железо у царя теперь из Сибири и такое хорошее и мягкое, что даже и шведского не отыщешь лучше… ружья больше им не нужно с такими расходами выписывать из-за моря» [14, с. 399].
В первой половине XIX в. на казенных заводах была проведена комплексная реконструкция в интересах оборонного заказа. К началу Крымской войны на долю уральских казенных заводов приходилось около 90 % российских боеприпасов, все холодное оружие, около 30 % стрелкового оружия, значительная часть крепостной артиллерии, 20 % корабельных пушек. Во второй половине века продолжалось наращивание военного потенциала Урала. После коренной модернизации Ижевского оружейного завода, постройки там сталеплавильного завода он стал обеспечивать оружейными стволами все производство стрелкового оружия в России. В 1891—1914 гг. заводами Урала было выпущено 12 % полевых и 50 % крепостных орудий, треть винтовок, более 40 % боеприпасов, произведенных в России [19, с. 17]. К концу Первой мировой войны доля продукции уральских предприятий в военном производстве России составила более 30 %.
Сибирская волна 1
Стержнем модернизации Сибири стало строительство Транссибирской железной магистрали. Оно широко освещено в отечественной и зарубежной литературе, но ее роль в процессе модернизации региона осталась недооцененным феноменом имперской фронтирной модернизации. Заполнить этот пробел одной статьей невозможно, но наметить некоторые подходы к нему необходимо.
Вопрос о строительстве железной дороги через всю Сибирь поднимался неоднократно. Одно из первых упоминаний о налаживании транспортного сообщения к выходу на побережье Тихого океана относится к 1857 г. В 60—70-х гг. XIX в. возникло несколько конкретных проектов железнодорож- ного сообщения с европейской частью страны, но дальше изыскательских работ дело не пошло. По мере того, как после отмены крепостного права и серии последующих реформ страна все активней включалась в модернизационный процесс, возрастал интерес к прокладке железных дорог не только среди представителей бизнеса того времени, но и интеллектуальной элиты. Ф.М. Достоевский доказывал: «Постройте только две железные дороги, начните с того — одну в Сибирь, а другую в Среднюю Азию, и увидите тотчас последствия… Россия новая, которая и старую бы возродила, и воскресила со временем и ей же пути ее разъяснила» [8, с. 36—38].
В 1880-е гг. проблема строительства сибирской железной дороги вышла на уровень национальной задачи. Этому способствовало обострение политической ситуации на Дальнем Востоке, потребность создания крупного морского порта во Владивостоке и опыт проведения Канадской тихоокеанской железной дороги. Весной 1890 г. вопрос был доложен императору Александру III, который наложил резолюцию: «Необходимо приступить скорее к постройке этой дороги», а 17 марта 1891 г. последовал рескрипт на имя наследника цесаревича, будущего царя Николая II, в котором значилось: «Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей соединить обильные дарами природы сибирские области с сетью внутренних рельсовых сообщений. Я поручаю Вам объявить таковую волю Мою… Вместе с тем возлагаю на Вас совершение во Владивостоке закладки разрешенному к сооружению…». 19 мая 1891 г. там состоялась торжественная закладка дороги. Цесаревич собственноручно свез первую тачку земли на полотно будущей дороги [16, с. 2—7].
Сооружение велось с двух концов — от Владивостока и от Челябинска. Готовые участки дороги начинали функционировать поэтапно. Регулярное движение поездов между Санкт-Петербургом и Владивостоком было установлено в июле 1903 г., но за исключением паромной переправы через Байкал, а с октября 1905 г., после сдачи в эксплуатацию кругобайкальского участка, поезда без перерывов рельсового пути пошли от берегов Атлантического океана до берегов Тихого океана.
Пропускная способность Транссиба поначалу была невелика — 13 поездов в сутки, что создавало немалые трудности для переброски войск во время русско-японской войны 1904—1905 гг. К тому же, ускорение социально-экономического развития региона под влиянием рельсового пути привело к быстрому росту пассажиро- и грузопотоков на магистрали и потребовало прокладки вторых путей, то есть к развитию модернизирующего начала транспортного пути в Сибирь. В 1907—1909 гг. была сооружена вторая колея от Челябинска до Иркутска протяженностью более трех тысяч километров, а в 1913 г. она дошла до Забайкалья.
Пришлось преодолеть невероятные трудности суровой тайги, гор, рек и болот, вечной мерзлоты. В пик строительства было занято до 90 тыс. рабочих, преимущественно ручным трудом, хотя начали использоваться некоторые механизмы, например, американские землеройные машины, активно при- менялись взрывы скальных пород, особенно при сооружении туннелей кругобайкальской части дороги, что свидетельствовало о современном подходе к строительству и способствовало выполнению огромного объема работ. По состоянию на 1903 год уложено свыше 12 млн шпал, около 1 млн тонн рельсов, преимущественно отечественных, перемещено свыше 100 млн кубометров земли, построено мостов и тоннелей протяженностью до 100 км. Расходы на сооружение дороги превысили 1 млрд золотых рублей [10, с. 177—179]. Магистраль длиной в 10 тыс. километров построили за десять лет. По своей протяженности, сложности и быстроте сооружения Транссиб не имел равных в мире.
Он сыграл очень важную роль в формировании общероссийского рынка, имперской модернизации в целом, закреплении страны на дальневосточных рубежах, в социально-экономическом развитии Сибири. За первые пять лет с начала эксплуатации дороги количество перевезенных пассажиров увеличилось в 10 раз и составило в 1900 г. 1,2 млн чел. В 2,5 раза выросла численность переселенцев. На первых порах более половины грузопотока приходилось на хлебные грузы [16, с. 21]. В 1905—1909 гг. урожай зерновых в Сибири превысил 300 млн пудов. В 1917 г. он достиг 600 млн пудов, а по расчетам Переселенческого управления к 1920-м годам он должен был составить 1 млрд пудов [4, с. 163]. Сибирские мясные и молочные продукты завоевывали российский рынок. Доля сибирского мяса на столичных рынках (Петербург, Москва) приблизилась к 50 %. Особую роль играло сибирское маслоделие. С прокладкой железной дороги оно получило оперативный выход в европейскую часть страны. В 1913 г. из Сибири было вывезено более 5 млн пудов высококачественного сливочного масла, получившего мировое признание [3, с. 41]. За него на международных рынках было получено больше золота, чем поступало с сибирских приисков.
Активно содействуя развитию сельского хозяйства региона, сибирская железная дорога на том этапе мало повлияла на ее индустриализацию, которая является основой модернизации. Заметного прогресса достигли лишь отрасли, связанные с эксплуатацией самой дороги, прежде всего угледобывающая. С 1895 г. по 1904 г. только в Томской губернии добыча угля увеличилась в 14 раз, а в Иркутской губернии в 35 раз. Доля Сибири в общероссийской угледобыче к 1913 г. составила около 8 % [4, с. 191—193]. Сибирь давала всего 1,5 % валовой продукции фабрично-заводской промышленности России. Зато исключительно быстро увеличивался ввоз в Сибирь промышленной продукции из европейской части страны. Только сельскохозяйственных машин и орудий в среднем ежегодно поставлялось свыше 3,5 млн пудов. Модернизирующее влияние железной дороги на Сибирь проявилось еще и в том, что сюда хлынула волна зарубежных предпринимателей и торговцев, которые несли с собой образцы западной техники, навыков организации производства и культуры. Это на бытовом уровне приближало сибиряков к достижениям цивилизации того времени.
Железная дорога ускорила заселение Сибири и ее урбанизацию, что является важным следствием модернизации. За 1893—1912 гг. население Сибири и Дальнего Востока увеличилось в 1,6 раз. Вдоль трассы возникали новые города и поселки, росла численность населения старых городов. Число жителей Иркутска увеличилось в 2 раза, Омска — в 3, Хабаровска в 3,2 раза, Владивостока в 7 раз. Население вновь возникшего города Новосибирска, сформировавшегося на базе железнодорожной станции Обь, с 1893 по 1903 гг. выросло до 83 тыс. чел. Однако Сибирь пока еще сильно отставала от европейской части страны по удельному весу городского населения. В 1917 г. горожане составляли 10,4 % жителей края, тогда как в целом по России — 18 %.
Строительство Транссибирской железнодорожной магистрали было высоко оценено как в России, так и далеко за ее пределами. Министр финансов С. Ю. Витте заявлял: «Для русской промышленности создается новый обширный внутренний рынок, избытки населения европейской России найдут себе выход на новые обширные пространства Сибири, возрастание ее населения и развитие промышленности увеличат производительные силы нашей родины, а сама Сибирь станет активной участницей культурной жизни» [Цит. по 15, с. 324]. Обозреватель Всемирной выставки 1900 г. в Париже писал: «После открытия Америки и сооружения Суэцкого канала история не отмечала события более выдающегося и более богатого прямыми и косвенными последствиями, чем постройка сибирской железной дороги». В итоге, Транссиб стал великим свершением русского народа на заре российской модернизации. Его строительство было сопряжено с большими трудностями, что невольно вызывает в памяти некрасовские строки из стихотворения «Железная дорога», отобразившего строительство Петербурго-Московской железной дороги (1842 — 1851 гг.):
«Да не робей за Отчизну любезную… Вынес достаточно русский народ, Вынес и эту дорогу железную — Вынесет все, что Господь ни пошлет!»
Конечно, проблема модернизации Сибири не исчерпывается сооружением Транссибирской железнодорожной магистрали, но она является основополагающей в данном контексте. Сам факт прокладки сплошного железнодорожного пути через непроходимые дебри Сибири в условиях XIX в. можно считать крупным достижением имперской модернизации России, хотя ее основные достижения и были отложены на более поздние исторические рубежи, выходящие за рамками нашей статьи.
Дальневосточная волна
К концу ХIХ в. фронтирная модернизация докатилась до крайних восточных рубежей империи, где столкнулись интересы ряда европейских и азиатских государств, а также США, что требовало безотлагательного укрепления позиций России на Тихоокеанском побережье. Геополитическая задача подкреплялась существенными социально-экономическими предпосылками: богатейшими природными ресурсами края, перспективами емкого рынка для сбыта российских товаров, бескрайними просторами для переселения крестьянства, страдающего от малоземелья в центральных губерниях страны. К тому же возникла надежда заметного пополнения бюджета, в котором за вторую половину века внешняя задолженность превысила 5 млрд рублей, [18, с. 199] в связи с чем встала нелегкая проблема соотнесения затрат на освоение и их результатов.
Началом активного освоения Дальнего Востока считается 1883 г., когда прибыли первые переселенцы в количестве 480 чел. [18, с. 199]. Особым Государственным совещанием, утвержденным Александром III 7 июня 1887 г., было принято решение считать необходимым «настоятельно озаботиться соединением железною дорогою Владивостока с р. Сунгача (приток Уссури), так как без этого наш главный порт в Тихом океане явится отрезанным от удобных сообщений с остальной Сибирью и лишенным всякой базы» [5, с. 5].
С образованием в 1893 г. Комитета Сибирской железной дороги выполнение этого решения пошло полным ходом. Закладка дороги радикально изменила отношение правительства к экономической политике на Дальнем Востоке. В распоряжение Комитета был предоставлен специальный фонд, предназначенный для колонизации края. Первоначально он определялся в 14 млн рублей с последующим дополнением крупных сумм, что позволило резко увеличить приток переселенцев. Сумма затрат на развитие Дальнего Востока лишь за 1897—1902 гг. составила 1,5 млрд руб., в то время как расходная часть российского бюджета в те годы находилась на уровне 10,9 млрд руб. [18, с. 11]
Поток переселенцев нарастал стремительно. Если за десять лет с 1883 по 1892 г. прибыло около 33 тыс. человек, то за последующие четыре года их число возросло до 47,3 тыс. человек [1, с. 10], а за 1901—1916 гг. в Приамурское генерал-губернаторство прибыло около 323,7 тыс. крестьян. Кроме того, только за 1912 г. через Иркутск на восточную окраину проследовало на заработки 80,8 тыс. рабочих. Именно за счет механического прироста в значительной мере формировались трудовые ресурсы края. На рубеже ХХ в. в общем приросте населения удельный вес мигрантов составлял 68,4 %. Учитывая приграничный характер региона, надо иметь в виду, что там неизменно росла численность военных. В 1865 г. она составляла 6,6 тыс. чел., а в 1914 г. — 110 тыс. чел. Вследствие модернизационных процессов, опережающими темпами рос удельный вес городского населения. В 1890—1900 г. при росте численности населения Дольнего Востока в 2,3 раза, число горожан выросло в 2,5 раза, с 1900 по 1916 гг. соответственно — в 2,1 раза и 2,5 раз [6, с. 14—17].
Крестьянская колонизация постепенно перерастала в промышленную модернизацию края. В 1860 г. в Николаевске-на-Амуре был построен судоремонтный завод. В 1870-е годы его оборудование было перевезено во Владивосток, который стал главным морским портом России на Тихом океане и ремонтной базой Дальневосточной флотилии. К 1917 г. Дальзавод превратился в крупное промышленное предприятие с современной по тому времени техникой. Здесь функционировала самая крупная в городе электростанция мощностью в 2000 л. с. К 1914 г. в регионе действовало 14 электростанций. Они начали появляться не только в городах, но и в крупных селах, что свидетельствовало о первых шагах по развитию электроэнергетики — важной составляющей модернизационного процесса.
Становление и развитие фабрично-заводского производства в целом сопровождалось ростом энерговооруженности. На первом месте в обрабатывающей промышленности по этому показателю стояло мукомольная, где технический переворот начался относительно рано, на рубеже 1870—1880 гг. Одна из первых паровых мельниц появилась во Владивостоке в 1879 г. К началу 1890-х гг. большая часть зерна в крае перерабатывалась механизированными мельницами, дававшими около 20 % валовой продукции обрабатывающей промышленности Приморья.
По всей обрабатывающей промышленности региона за 1885/86 — 1895/96 гг. энерговооруженность увеличилась в 3,8 раза, а за 1896—1902 гг. в 1,3 раза. В дальнейшем этот процесс ускорился. По данным Приморской заводской инспекции за 1907—1913 гг., мощность машин и двигателей в обрабатывающей промышленности увеличилась в 8,6 раз, а в расчете на одного рабочего энерговооруженность возросла с 0,35 до 1,14 л. с. Это ниже среднего показателя по всей промышленности России, но выше уровня Сибири [6, с. 43, 50—51].
Меньшее, в основном местное значение, имела фабрично-заводская промышленность. Ее техническая оснащенность была низкой. Общая мощность паровых двигателей составляла всего 810 лошадиных сил, электрическая даже не упоминалась [17, с. 915]. На рубеже веков некоторое развитие получили машиностроение и металлообработка: чугунолитейный и механические заводы Чепурина, производившие паровые котлы, машины, оборудование для приисков и лесопильных заводов. Функционировали судостроительный и механический заводы Шадрина по ремонту речных пароходов в Благовещенске. В городах преобладали мелкие ремесленные предприятия. Их механическая оснащенность и энерговооруженность были крайне низкими. Суммарная мощность паровых двигателей обрабатывающей промышленности Амурской области к концу XIX в. составляла 289 л. с., а в Приморской области — 208 л. с. Энерговооруженность одного рабочего находилась на уровне 0,25 л. с., тогда как в среднем по России — 0,63 л. с. [18, с. 208].
Среди отраслей добывающей промышленности наибольшее развитие получила золотопромышленность. За 1870—1890-е гг. число приисков в Амурской области увеличилось в 6,7 раза, а количество добываемого золота в 3,5 раз. За пятилетие 1885— 1889 гг. добыто 1827 пудов золота, а в следующие пять лет — 2589 пудов. Рекордным считается 1907 г., когда на Дальнем Востоке было добыто 720 пудов золота.
Крупные золотодобывающие компании на своих приисках с конца 70-х гг. XIX в. начали использовать паровые двигатели, а позднее электричество. Здесь впервые в России был применен дражный способ добычи драгоценного металла. В начале 1890-х гг. в Амурской области на 14 приисках работали силовые установки общей мощностью 504 л. с. [6, с. 66—67, 69].
Однако этот процесс шел трудно, противоречиво, как и вся имперская модернизация. Уровень технической вооруженности золотопромышленности то поднимался, то опускался в зависимости от эффективности затрат на нее. После активизации работ в этом направлении на богатых месторождениях во второй половине XIX в. под влиянием их истощения и притока дешевой рабочей силы из Китая и Кореи в конце века даже в крупных компаниях типа Верхне-Амурской наметилось возвращение к мелкому золотничеству. Поэтому масштабы золотодобычи и уровень ее механизации в разное время на разных приисках резко колебался, что затрудняет подведение общих итогов по отрасли.
На втором месте стояла угледобывающая промышленность, что диктовало развитие водного и железнодорожного транспорта. За 1890—1900 гг. она увеличилась в 6,2 раза и достигла 4,3 млн пудов, но это не удовлетворяло быстро растущие потребности промышленности и транспорта в условиях их ускоряющейся модернизации. Недоставало 25—30 млн пудов. Приходилось завозить дорогостоящий уголь из Англии и Японии. Несмотря на то, что с 1900 по 1913 гг. добыча увеличилась в 4,5 раза, угля по-прежнему не хватало. Продолжалась его доставка из-за рубежа в объеме 3—4 млн пудов ежегодно. При этом необходимо отметить ускоренный рост энерговооруженности отрасли с 1897 по 1905 гг. — в 5,8 раза, а с 1905 по 1916 гг. — 3,5 раза. Выработка угля на одного рабочего лишь немногим уступала общероссийскому уровню [6, с. 73—75].
Зарождались металлорудная и нефтедобывающая промышленность. С 1908 по 1913 гг. добыча серебро-свинцово-цинковых руд увеличилась с 0,5 до 3,7 млн пудов. Налаживался их вывоз за границу для обеспечения высокотехнологических отраслей промышленности. Обнадеживающие результаты дали нефтеразведочные работы. В 1910 г. на Охе была получена первая нефть, но организовать ее систематическую добычу в имперский период не удалось [6, с. 76—78]. Развивались и другие отрасли индустрии. Накануне Первой мировой войны удельный вес валовой продукции промышленности в дальневосточной экономике достиг 46,0 %, тогда как в целом по России — только 38,0 % [13, с. 250].
Для модернизации Дальнего Востока, как самого отдаленного региона страны, особое значение имела транспортная составляющая, которая решалась здесь довольно оперативно. Кроме Транссиба вступили в строй Уссурийская, Китайская Восточная железная дорога (КВЖД) и другие более короткие линии. Активно совершенствовались морское и речное судоходство, которое включало далекую окраину государства в общероссийский рынок и закрепляло его позиции в Азии. Краевой центр Владивосток вошел в число пяти крупнейших портов России. В нем функционировало десять консульств ведущих зарубежных стран, что имело не последнее значение для получения иностранных инноваций. В годы
Первой мировой войны он оказался единственным портом империи, через который беспрепятственно проходили грузы из зарубежья.
Имперская фронтирная модернизация, докатившаяся до Дальнего Востока в последнюю очередь, носила противоречивый характер. Она охватывала более широкий спектр производств, чем уральская и сибирская, но по своим масштабам уступала им. По некоторым позициям превосходила даже общероссийский уровень, имела особо важное стратегическое значение для государства, однако осталась все-таки на низком уровне в нем.
-
* * *
Таким образом весь имперский период волны российских модернизаций одна за другой перекатывались через Урал и Сибирь до берегов Тихого океана. Они поднимались под воздействием геополитических и технологических вызовов традиционной империи, которая, хотя и с запозданием, но, все-таки справлялась с ними до революционных потрясений начала ХХ в. В дальнейшем имперская фронтирная модернизация стала предтечей для радикальных экономических и социально-культурных преобразований новой эпохи.
Список литературы Фронтирная модернизация в имперской России
- Алексеев, А. И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока/А. И. Алексеев, Б. Н. Морозов. -М.: Наука, 1989. -224 с
- Алексеев, В. В. Россия в модернизирующемся мире/В. В. Алексеев//История России. Теоретические проблемы. Модернизационный подход к изучению российской истории. -М.: Институт Российской истории РАН, 2013. -384 с.
- Алексеева, В. К. Кооперативное движение в Сибири. Конец XIX -начало ХХ вв./В. К. Алексеева. -Новосибирск: Изд-во НГУ, 1993. -119 с.
- Винокуров, М. А. Экономика Сибири. 1900-1928/М. А. Винокуров, А. П. Суходолов. -Новосибирск: Наука, 1996. -320 с.
- Витте, С. Ю. Пролог русско-японской войны/С. Ю. Витте. -Пг.: Брокгауз-Ефрон, 1916. -352 с.
- Галлямова, Л. И. Дальневосточные рабочие России во второй половине XIX -начале ХХ в./Л. И. Галлямова. -Владивосток: Дальнаук, 2000. -222 с.
- Голикова, С. В. «Люди при заводах»: обыденная культура горнозаводского населения Урала XVIII -начала ХХ вв./С. В. Голикова. -Екатеринбург: Банк культурной информации, 2006. -284 с.
- Достоевский, Ф. М. Полн. собр. соч. в тридцати томах/Ф. М. Достоевский. -Т. 27. -Л., 1984. -463 с.
- История народного хозяйства Урала (1917-1945 гг.)./отв. ред. М. А. Сергеев. -Ч. 1. -Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1988. -251 с.
- История Сибири. -Т. 3. -Л.: Наука, 1968. -511 с.
- Кирпищиков, М. Очерк быта мастеровых Чермозского завода, находящегося в Соликамском уезде Пермской губернии/М. Кирпищиков//Пермские губернские ведомости. -1864. -№ 34.
- Описания хребта Уральского, составленные Пермским берг-инспектором П. Е. Томиловым//Горнозаводская промышленность Урала на рубеже XVIII-XIX вв.: сб. докум. материалов/под ред. А. Н. Ефимова. -Свердловск: Уральское отделение АН СССР, 1956. -С. 147-298.
- Петров, А. А. Предпосылки капитального строительства промышленности на 10-летие 1926-1936 гг.//Экономическая жизнь Дальнего Востока. -1927. -№ 1-2. -С. 249-259.
- Плейер, О. А. О нынешнем состоянии государственного управления в Московии в 1710 году//Лавры Полтавы/Оттон Плейер. -М.: Фонд Сергея Дубова, 2001. -С. 397-413.
- Ремнев, А. В. Россия Дальнего Востока. Имперская география власти XIX -начала ХХ веков/А. В. Ремнев. -Омск: Изд-во Омск. гос. ун-та, 2004. -550 с.
- Сибирь под влиянием рельсового пути. -СПб.: Издание редакции период. изданий Министерства финансов, 1902. -221 с.
- Смирнов, Е. Т. Приморский край на Амурско-Приморской выставке 1899 г./Е. Т. Смирнов. -Хабаровск: Тип. канцелярии Приамурского генерал-губернатора, 1899. -671 с.
- Хадонов, Е. Е. Очерки из истории финансово-экономической политики пореформенной России (1861-1904 гг.)/Е. Е. Хадонов. -М.: ЮПАПС, 1997. -240 с.
- Шумкин, Г. Н. Военное производство на Урале в конце XIX -начале ХХ вв. (1891 -июль 1914 гг.): автореф. дис.. канд. ист. наук: 07.00.02/Г. Н. Шумкин. -Екатеринбург, 2002. -18 с.