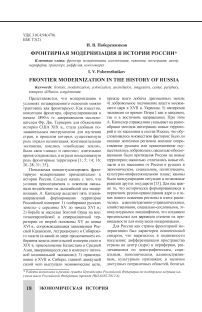Фронтирная модернизация в истории России
Автор: Побережников Игорь Васильевич
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Модернизация России
Статья в выпуске: 2 (21), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье делается попытка концептуализировать фронтирную модернизацию (модернизацию в условиях незавершенного освоения) применительно к истории России, которая в общем способствовала еще большему усложнению механизмов развития страны, подчеркиванию ее цивилизационно-культурного своеобразия.
Фронтир, модернизация, колонизация, освоение, интеграция, центр, периферия, транспорт, диффузия, конгломерат
Короткий адрес: https://sciup.org/14723901
IDR: 14723901 | УДК: 316.4:94(470)
Текст научной статьи Фронтирная модернизация в истории России
Представляется, что модернизацию в условиях незавершенного освоения можно трактовать как фронтирную. Как известно, концепция фронтира, сформулированная в начале 1890-х гг. американским исследователем Фр. Дж. Тернером для объяснения истории США XIX в., стала удобным познавательным инструментом для изучения стран, в прошлом которых существенную роль играли колонизация, континентальная экспансия, имелись «свободные земли», были свои «запад» и «восток»; длительное время сохранялись и играли немаловажную роль фронтирные территории [1; 5; 14; 16; 26–28; 31; 35].
Попытаемся концептуализировать фрон-тирную модернизацию применительно к истории России. Следует начать с того, что условия присоединения и освоения оказывали воздействие на дальнейший ход модернизации. А. Каппелер выделяет пять этапов-направлений формирования территории Российской империи: 1) «собирание русских земель» с середины XV до начала XVI в.; 2) борьба за наследие Золотой Орды на восточноевропейской и североазиатской территории со второй половины XV до конца XVI в., сопровождавшаяся завоеванием Россией Казанского, Астраханского и Сибирского ханств (в какой-то мере продолжением собирания земель монгольской империи стало в XIX в. присоединение Казахстана и Средней Азии, завершившееся уже в контексте типичной колониальной экспансии); 3) присоединение в XVII в. Сибири, главной движущей силой чего выступали экономические цели, прежде всего добыча драгоценных мехов; 4) добровольное подчинение власти московского царя в XVII в. Украины; 5) имперская экспансия со времен Петра I как в западном, так и в восточном направлении. При этом А. Каппелер справедливо указывает на разнообразие методов интеграции новых территорий и их населения в состав России, что обусловливалось множеством факторов: было ли оказано жителями регионов военное сопротивление русским или присоединение осуществлялось добровольно; насколько обоснованными были притязания России на новые территории; насколько отличались новые области и их население от России и русских в экономическом, социальном, политическом, культурно-конфессиональном плане; каковы были международная ситуация и возможные реакции других государств [13]. Для нас важно то, что исторически формировавшиеся в первичном русско-православном ядре и в зонах нового освоения регионы в итоге различались административно-управленческими, хозяйственными, социально-сословными, этнокультурными ландшафтами, что создавало предпосылки для вариации степени их проницаемости для импульсов модернизации.
Для России как страны фронтирной модернизации был характерен освоенческий синдром, что выразилось в подвижности населения; дифференциации пространства страны на центр (ядро) и периферию, различавшиеся по демографическим, социальным, экономическим, административным, культурным признакам; в наличии доступных пограничных областей, богатых ресурсами и служивших клапаном для разрядки социальных проблем более плотно заселенных регионов; в возможности для лиц и групп, считавших себя незаслуженно обиженными, не сумевших обеспечить себе удовлетворительных условий существования, мечтавших культивировать нетрадиционные представления, переселиться в пограничные области; в потребности в дополнительной рабочей силе, необходимой для разработки избыточных ресурсов; в проблеме адаптации и ассимиляции, возникавшей вследствие притока мигрантов на периферийные территории; в растянутости по времени колонизационных процессов (заселение, аграрное, промышленное освоение); в экстенсивном характере аграрной экономики; в региональных, этнокультурных контрастах и диспропорциях, в различной степени заселенности и освоенности территорий; в социально-сословной и этно-конфессиональной мозаике и т. п.
Хорошо известно, что присоединение новых территорий продолжалось и в XIX в. (Кавказ и Закавказье, Средняя Азия, Дальний Восток). Наличие больших массивов слабозаселенных территорий создавало предпосылки для дальнейшего переселения, миграций, разрядки демографического давления в густонаселенных районах. Колонизация тормозила переход от экстенсивных к интенсивным методам освоения пространства, закрепляла низкотехнологичные уклады в центре страны, транслировала их на периферию, ослабляя таким образом целый ряд модернизационных по своей природе процессов, таких как урбанизация, индустриализация и т. д.
Расширение территории, с одной стороны, увеличивало ресурсы для хозяйственного развития, способствовало складыванию обширного внутреннего рынка, но при этом, с другой стороны, объективно создавало предпосылки и возможности для ориентации на самодостаточное развитие. Необходимо также учитывать что доминирующий восточный вектор российской колонизации со временем увеличивал удаленность страны от моря, способствуя росту транспортных издержек при перевозке товаров и усложняя интеграцию страны в систему международного разделения труда
[22, с. 593]. Недооценивать данное обстоятельство в контексте модернизационных процессов не следует, так как транспортный фактор имел решающее значение для становления современного индустриального общества.
Хорошо известно, какое значение для индустриализации и интеграции стран имело железнодорожное строительство в США и Канаде в XIX в. В России железные дороги также содействовали ускорению развития окраинных регионов, стимулировали рост в них промышленности, городов. Благодаря созданию общеуральской железнодорожной сети был образован рынок промышленного сырья и топлива, получили развитие внутрирегиональные экономические связи, был дан импульс регионализации социально-экономических и социокультурных процессов в крае. Единственная в России к началу XX в. трансконтинентальная железная дорога, Транссиб, соединившая Сибирь с европейской частью страны, сразу же способствовала ликвидации былой обособленности региона, интенсификации хозяйственного освоения восточных районов, стимулировала миграцию и переход сельского хозяйства к рынку. Строительство Транссибирской магистрали явилось крупнейшим событием промышленной революции в Сибири, которая в регионе, как считают специалисты, начиналась именно с транспорта, с водного транспорта, а затем – с железной дороги, которые создавали условия индустриализации прочих промышленных секторов [6; 8; 29; 30; 32].
Необходимо при этом учитывать, что значительная часть вновь присоединенных территорий, особенно на востоке, отличалась суровыми природно-климатическими условиями (холодный, засушливый континентальный климат), малоблагоприятными для ведения сельского хозяйства, сезонного и находившегося в сильной зависимости от климатических колебаний, что не могло не сказываться негативным образом на общей динамике экономических и социальных отношений.
Земли, которые присоединялись или относительно недавно присоединенные территории, к которым, в частности, можно отнести восточные регионы России – Урал и Сибирь, продолжали осваиваться в эпоху модернизации, когда страна в целом проходила прото- и раннеиндустриальную стадии модернизации. Так, только с середины XVIII в. началось мощное земледельческое освоение Южного Урала. Большие массивы свободной земли были распаханы в Башкирии, Предуралье и Зауралье во второй половине XIX – начале XX в. Что касается Сибири, то в XVIII–XIX вв. продолжался процесс присоединения и закрепления территорий на юге региона, а также на Дальнем Востоке; нарастающими темпами шла аграрная колонизация. Кроме того, интенсивное развитие на Урале, а затем и на юге Сибири, на Алтае, в Забайкалье, получила промышленная колонизация, развернувшаяся в первой половине XVIII в.
Еще одно важное следствие продолжающегося фронтира – необходимость обеспечения условий для мирного стабильного развития в ситуации «пограничья» и наличия порой враждебного «соседства». Раннее формирование достаточно эффективного традиционалистского государства, накопившего длительный опыт централизованного управления в противостоянии внешним угрозам, имело серьезные последствия для динамики и характера начавшейся позднее модернизации. Именно традиционалистские правительства обыкновенно инициировали программы ограниченной или защитной модернизации, разрабатывавшиеся в значительной степени для консервации традиционного общества и защиты его от более интенсивных и радикальных изменений.
Что касается «фронтирных» территорий, то их характерным признаком являлась заметная милитаризация, проявлявшаяся в размещении фортификационных сооружений, регулярных воинских частей, поселенных иррегулярных формирований (Донское, Кубанское, Терское, Астраханское казачество на юге европейской России, Яицкое (Уральское), Оренбургское казачество, Башкиро-мещерякское войско на Урале; Сибирское, Семиреченское, Забайкальское, Амурское, Уссурийское казачьи войсковые организации – в Сибири и на Дальнем Востоке) [3, с. 7–8; 4; 7; 11; 17; 23; 25], установлении особых военизиро- ванных форм администрации (военный губернатор, генерал-губернатор, наместник) [18–21; 24].
Хорошо известно, что пограничье – зона не только разделения, но и в то же самое время соединения людей и предметов потребления друг с другом, «часто в очень материальной и телесной форме», «главные места гибридизации, местоположение множественных идентификаций и изменяющихся форм» [34, с. 103, 109]. В связи с этим маркером фрон-тирной модернизации становится разновекторная диффузия. Процесс освоения новых пространств требовал максимального разнообразия культурных навыков и мог быть облегчен этнокультурным взаимодействием и заимствованиями из культур автохтонных народов, уже приспособившихся к специфической среде обитания. С другой стороны, контакт местного населения с пришлым создавал и для первого предпосылку для совершенствования собственной культуры. На все эти процессы диффузионного характера модернизация накладывала трансфер технологий, социальных институтов, культурных ценностей западного, преимущественно – западноевропейского, происхождения [2; 10; 15].
Естественным следствием погранично-сти периферийных регионов, продолжения на их территории освоенческих процессов, межэтнической миксации, интерференции диффузий традиционного и модерного типов становилась конгломератность, т. е. длительное сосуществование и устойчивое воспроизводство разнородных структурных компонентов.
Когда модернизация исторически запаздывала, проводилась как вынужденная, она могла усиливать фрагментарность общества, способствовать не нивелировке (социокультурной, региональной, хозяйственной – естественный модернизационный процесс), но, напротив, росту социальной асимметрии. Асимметрия могла нарастать и в рамках субстрановых регионов. Так, экономическая модернизация на Урале на протяжении XVIII–XIX вв. привела к возникновению горнозаводского сектора промышленности, но при этом существенно усилила конгломератность региона. Очаговый характер модернизации резюмиро- вался созданием промышленных анклавов, окруженных сохранявшейся традиционной аграрной периферией [9]. В еще большей степени неравномерность и очаговость были характерны для модернизации зауральской части России.
Региональные и субрегиональные общности по-разному ведут себя в общестрановом модернизационном контексте: выступают региональным фактором модернизации или, напротив, тормозом, «якорем» отсталости, амортизирующим модернизационные импульсы, исходящие из центра или более продвинутых регионов. Помимо субстрановых регионов-моторов модернизации (например, Урал как очаг активной протоиндустриальной модернизации в XVIII в.), всегда существовали ее периферийные зоны. К числу последних, в частности, относился север Сибири, экономика которого, как, впрочем, и экономика северных регионов Северной Америки (в частности, канадских), на протяжении фактически XVII–XIX вв. носила ярко выраженный «фронтирный» характер.
Фронтир имеет свою логику, которая, однако, не является раз и навсегда заданной. Обыкновенно, по мере присоединения, первоначально происходила фронти-ризация – формирование пограничных зон. Затем пограничные – фронтирные – территории постепенно утрачивали «фронтир-ные» черты, интегрируясь в общестрановое пространство (происходила дефронтириза-ция). Причем данный процесс нельзя сводить к какому-либо одному измерению. Фронтир многослоен (это географический фронтир между различными природноклиматическими зонами, социальный фронтир между различными жизненными укладами, милитарный фронтир между враждебными сообществами, социокультурный и конфессиональный фронтир между различными ценностными и культурными традициями [12, с. 48]), поэтому и изживание фронтирности может быть «многослойным».
Например, «периферийность» недавно присоединенного Урала в XVI–XVII вв. подчеркивалась подчиненностью его территории, входившей тогда в состав обширной Сибири, специальным центральным органам управления с региональной компетенцией – Посольскому приказу (1580– 1590-е гг.), приказу Казанского дворца (в начале XVII в.), наконец, Сибирскому приказу, учрежденному в 1637 г. Постепенно шли процессы унификации и гомогенизации. Но и в XVIII–XIX вв. признаком «незавершенной» интегрированности, своеобразной пограничности Урала выступала заметная милитаризация, проявлявшаяся в размещении здесь иррегулярных формирований (Уральское, Оренбургское казачество), в установлении особых военизированных форм администрации, в частности, на юге региона (пост оренбургского генерал-губернатора был упразднен лишь в 1881 г., после того, как край утратил значение пограничного), в запоздалом распространении на регион общероссийских институций. В частности, земства как органы местного самоуправления, введенные в стране в 1864 г., появились в Вятской губернии в 1867 г., в Пермской – в 1870-м, в Уфимской – в 1875-м, а в Оренбургской – лишь в 1913 г. Столь поздние сроки организации земского общественного самоуправления в двух последних губерниях были обусловлены их нетипичностью – наличием значительной доли инородческого населения в Уфимской губернии и казачьего – в Оренбургской.
В действительности возможны и процессы рефронтиризации, что действительно наблюдалось, например, в результате распада СССР, фактически приведшего к превращению российского Дальнего Востока в экономическую, национальную и геополитическую пограничную область между российским Приморским краем и северо-восточным Китаем (провинция Хей-лунцзян) [34].
Представляется, что концепция фрон-тирной модернизации применима и к российской истории XX в., по крайней мере к районам нового промышленного освоения (многие сибирские регионы, Север, Дальний Восток), для которых были характерны такие черты, как малая заселенность, миграционная активность, подвижное население, проблемы адаптации к новым условиям, находящиеся в процессе формирования транспортная и социальная инфраструкту- ра, неоднородность населения, постоянное балансирование между традициями и новациями, которые неизбежно привносились социально-профессиональными, социокультурными и этническими группами людей, активно прибывавшими на индустриальные новостройки [33].
В целом к характеристикам фронтир-ной модернизации в России можно отнести сохранявшее значимость освоение в разнообразных проявлениях, особую роль военно-административного элемента, социальную-экономическую, культурно-конфессиональную разнородность пространства страны. Фронтирная модернизация в общем способствовала еще большему усложнению механизмов развития России, подчеркиванию ее цивилизационно-культурного своеобразия. В формирование институциональнокультурной «палитры» страны вносили свой вклад различные региональные этно-конфессиональные, социокультурные группы, каждая из которых обладала своеобразным, порой уникальным, историческим опытом, своими приверженностями и предрассудками. При этом соотношение между уровнями фронтирности и модернизации вряд ли можно свести к прямой пропорциональной зависимости. Характер и динамика модернизации могли существенно различаться во фронтирных обществах и регионах и обусловливались целым рядом факторов: размерами территории; временем ее присоединения и начала модернизации; этносоциальным составом; геополитическим положением региона и степенью безопасности; ресурсной обеспеченностью; доминирующими в обществе институтами; выбором стратегии экономического развития; ролью государства и рынка как механизмов развития и т. д.
Список литературы Фронтирная модернизация в истории России
- Агеев А. Д. Сибирь и американский Запад: движение фронтиров/А. Д. Агеев. -М., 2005.
- Алексеева Е. В. Диффузия европейских инноваций в России (XVIII -начало XX в.)/Е. В. Алексеева. -М., 2007.
- Алексеенко В. Н. Этапы и источники формирования славянского населения Казахстана в XVIII -начале ХХ века/В. Н. Алексеенко//Вестн. Евразии. -2000. -№ 2. -С. 5-21.
- Астапенко М. П. Донские казаки 1550-1920/М. П. Астапенко. -Ростов н/Д, 1992.
- Болховитинов Н. Н. США: проблемы истории и современная историография/Н. Н. Болховитинов. -М., 1980.
- Букин С. С. Сибирь в модернизационной стратегии Росии (конец XIX -начало XX в.)/С. С. Букин, В. И. Исаев, А. И. Тимошенко//Экономическая история Сибири XX века. -Барнаул, 2006. -Ч. 1. -С. 66-73.
- Великая Н. Н. Казаки Восточного Предкавказья в XVIII-XIX вв./Н. Н. Великая. -Ростов-н/Д, 2001.
- Гаврилов Д. В. Горнозаводский Урал XVII-XX вв.: избр. тр./Д. В. Гаврилов. -Екатеринбург, 2005.
- Голикова С. В. Горнозаводские центры и аграрная среда в России: взаимодействия и противоречия (XVIII -первая половина XIX века)/С. В. Голикова, Н. А. Миненко, И. В. Побережников. -М., 2000.
- Диффузия технологий, социальных институтов и культурных ценностей на Урале (XVIII -начало XX в.). -Екатеринбург: УрО РАН, 2011.
- История казачества Азиатской России. Екатеринбург, 1995. Т. 1: XVI -первая половина XIX века; Т. 2: Вторая половина XIX -начало XX века.
- Каппелер А. Южный и восточный фронтир России/А. Каппелер//AB IMPERIO. -2003. -№ 1. -С. 47-64.
- Каппелер А. Формирование Российской империи в XV -начале XVIII века: наследство Руси, Византии и Орды/А. Каппелер//Российская империя в сравнительной перспективе: сб. ст./под. ред. А. И. Миллера. -М., 2004. -С. 98-108.
- Кук Р. Граница и метрополия: опыт Канады/Р. Кук. -М., 1970 (XIII Международный конгресс исторических наук, М., 16-23 августа 1970 г.).
- Курлаев Е. А. Технико-технологические инновации в горно-металлургическом производстве Урала в XVII-XVIII вв./Е. А. Курлаев, Н. С. Корепанов, И. В. Побережников. -Екатеринбург, 2011.
- Кушнер Г. Постоянство «идей границы» в американской мысли/Г. Кушнер//Новый взгляд на историю США: Американский ежегодник, 1992. М., 1993. С. 136-151.
- Малукало А. Н. Кубанское казачье войско в 1860-1914 гг.: организация, система управления и функционирования, социально-экономический статус/А. Н. Малукало. -Краснодар, 2003.
- Матханова Н. П. Генерал-губернаторы Восточной Сибири середины века: В. Я. Руперт, Н. Н. Муравьев-Амурский, М. С. Корсаков/Н. П. Матханова. -Новосибирск, 1998.
- Матханова Н. П. Высшая администрация Восточной Сибири в середине XIX века. Проблемы социальной стратификации/Н. П. Матханова. -Новосибирск, 2002.
- Мацузато К. Выдвигая периферию на Восток: территориальная реформа и социальная трансформация в «Большом Оренбуржье» в середине XIX в./К. Мацузато//Региональное управление и проблема эффективности власти в России (XVIII -начало XXI в.). -Оренбург, 2012. -С. 52-53.
- Национальные окраины Российской империи: становление и развитие системы управления. -М., 1998.
- Нольте Г.-Г. Западная и Восточная Европа перед лицом глобализации/Г.-Г Нольте//Экономическая теория на пороге XXI века -7: Глобальная экономика. -М., 2003. -С. 589-611.
- Огурцов А. Ю. Военно-инженерная политика русского правительства в Западной Сибири в XVIII в.: автореф. дисс. … канд. ист. наук/А. Ю. Огурцов. -Свердловск, 1990.
- Пережогин А. А. Военизированная система управления Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа (1747-1871 гг.)/А. А. Пережегин. -Барнаул, 2005.
- Пузанов В. Д. Военные факторы русской колонизации Западной Сибири. Конец XVI-XVII вв./В. Д. Пузанов. -СПб., 2010.
- Резун Д. Я. Фронтир в истории Сибири и Северной Америки в XVII-XX вв.: общее и особенное/Д. Я. Резун, В. А. Ламин, Т. С. Мамсик, М. В. Шиловский. -Новосибирск, 2001.
- Резун Д. Я. Сибирь, конец XVI -начало XX века: фронтир в контексте этносоциальных и этнокультурных процессов/Д. Я. Резун, М. В. Шиловский. -Новосибирск, 2005.
- Саймонс А. М. Социальные силы в американской истории/А. М. Саймонс. -М., 1925.
- Супоницкая И. М. Опыт освоения земель: Сибирь и Запад/И. М. Супоницкая//Российско-американские отношения в прошлом и настоящем: Образы, мифы, реальность: материалы междунар. конф., посвящ. 200-летию установления дипломат. отношений между Россией и США, РГГУ (Москва), 21-22 февр. 2007 г. -М., 2007. -С. 134-143.
- Супоницкая И. М. Равенство и свобода. Россия и США: сравнение систем//И. М. Супоницкая. -М., 2010.
- Тёрнер Ф. Дж. Фронтир в американской истории/Ф. Дж. Тёрнер. -М., 2009.
- Тимошенко А. И. Проекты социально-экономического развития Сибири в XX в.: концепции и решения. Исторические очерки/А. И. Тимошенко. -Новосибирск, 2007.
- Тимошенко А. И. Индустриальное строительство в Сибири во второй половине ХХ столетия как вариант фронтирной модернизации / / А. И. Тимошенко // Модернизация в условиях освоения восточных регионов России в XVIII – XX вв. – Екатеринбург, 2012. – С. 141–148.
- Холцленер Т. Восточная пористость: антропология трансграничной торговли и контактов на российском Дальнем Востоке/Т. Холцленер//Ойкумена. -2009. -№ 3. -С. 102-111.
- Шейд У. Дж. Не только граница: значение Фредерика Джексона Тернера для исследования ранней республики/У. Дж. Шейд//Американский ежегодник, 2002. -М., 2004. -С. 9-32.