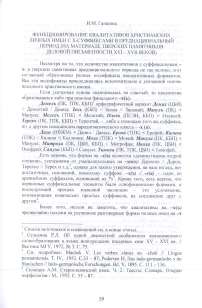Функцианирование квалитативов христианских личных имен с х-суффиксами в преднацианальный период (на материале тверских памятников деловой письменности XVI - XVII)
Автор: Ганжина Ирина Михайловна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Лингвистика
Статья в выпуске: 3, 2005 года.
Бесплатный доступ
Количество квалитативов с суффиксальным - x- в тверских памятниках преднационального периода не велико. Этот согласный образовывал разные модификаты квалитативных форматов. Все эти модификаты присоединялись исключительно к усеченной основе исходного христианского имени.
Квалитативы, х-суфикс, деловая письменность, квалитативные формы, словообразование
Короткий адрес: https://sciup.org/146120407
IDR: 146120407 | УДК: 81'373.231(470.331)"15/16":81'373.611
Текст научной статьи Функцианирование квалитативов христианских личных имен с х-суффиксами в преднацианальный период (на материале тверских памятников деловой письменности XVI - XVII)
Демехъ (ПК, ТПК, КБП)1 орфографический вариант Демих (ЦБИ) < Дементий / Демид; Зехъ (КБП) < Зенов < Зиновий; Манухь (ПК) < Мануил; Мелехъ (ТПК) < Мелетий; Олехъ (ПСЭИ, КБП) < Олексей; Терехъ (ПК, ТПК, КБП) < Терентий, - либо с помощью того же суффикса, но с другим показателем парадигматического класса - -х (а);
Доха (НВЖМ) < Данил / Давыд; Ероха (ТПК) < Ерофей; Калиха (ТПК) < Калина < Каллиник; Моха (ТПК) < Мокий; Мануха (ПК, КБП) < Мануил; Мишроха (ПК, ЦБИ, КБП) < Митрофан; Оноха (ПК, ЦБИ) < Онофрей; Самуха (КБП) < Самуил; Тимоха (ПК, ТПК, ЦБИ) < Тимофей.
Есть мнение, что формы на -х(ъ) являются «деминутивами второй степени», усечениями от уменьшительных на -хн(о): Дорохно > Дорох, Терехно > Терех и т.д.2, однако для такого утверждения, на наш взгляд, нет достаточных оснований, поскольку суффикс -х(ъ) / -х(а) - один из древнейших суффиксов, возникший из *s3. Кроме того, есть версия, что первичные суффиксальные элементы были однофонемными формами, и последующий процесс языковой эволюции - это усложнение, контаминация изначально простых суффиксов, их соединение друг с другом4.
Более того, нельзя не заметить, что квалитативы на -х(ъ) чрезвычайно похожи на усеченные разговорные формы полных имен на -х исконный или на —х < ф: Онтухъ (ТПК, КБП) < Евтихий; Дорохь (ПК, ТПК, КБП) < Дорофей, Ерохъ (НВЖМ) < Иерофей, Орехъ (ТПК) < Арефа, Остахъ (ТПК) < Евстафий, Темохь (КБП) < Тимофей; Малахъ / Молахъ (ПК, ТПК) < Малахия - возможно, через промежуточную разговорную форму Малафей (о том, что последний из приведенных модификатов является полным разговорным именем, а не квалитативом, свидетельствует и факт его употребления в монашеской среде, где, как известно, личные имена употреблялись в полной форме: «архимандритъ Малахъ»1. Вероятно, подобные формы явились как бы мостиком, переходом от полных разговорных форм к квалитативным.
Квалитативные формы в донациональный период, как показывает материал, не выражали никакой субъективной оценки, почему применительно к ним и не могут быть употреблены термины «уменьшительно-ласкательные имена»2, “формы с суффиксами субъективной оценки”3, “ласкательные”, “уничижительные”4, “эмоционально-оценочные формы”5. В данном случае справедливо замечание А.Н. Мирославской о том, что суффиксы в подобных формах являлись лишь “средством сближения их со словарным фондом русского языка”6. На наш взгляд, критерием, позволяющим считать оним полным разговорным именем, является отпадение в каноническом имени конечных -ей, -ий, -ан, -а, -ия (видимо, воспринимавшихся как формообразующие аффиксы) и одновременное изменение конечного ф > х. Однако если к подобной форме добавлялось финальное -а, то, по всей вероятности, такая форма может считаться квалитативной (ср.: Ероха (ТПК) < Иерофей, Митроха (ПК, ЦБИ, КБП) < Митрофан, Оноха (ПК, ЦБИ) < Онуфрий, Тилюха (ПК, ТПК, ЦБИ) < Тимофей): материал показывает, что в полных разговорных формах, как правило, от исконной финали -а избавлялись, в то время как в квалитативах она была достаточно частотной.
Если исходная усеченная основа имени была консонантной, то имеем варианты названного суффикса с начальным гласным:
-
- ух(ъ) / -юх(ъ): Олухъ (КБП) < Олексей / Елевферий (ср. Олферъ) / Елисей (ср. Олиско); Мартюхъ (КБП) < Мартин / Мартиниан;
-
- юх(а): Илюха (ПСЭИ) < Илья; Мартюха (ТПК) < Мартин / Мартиниан; Оксюха (ЦБИ) < Оксен < Авксентий;
-
- ох(а): Лутоха (КНАМ) < Лутьян < Лукиан; Оноха (ПК, ЦБИ) < Онисим.
Впрочем, существует мнение, что -ух- - это особый, самостоятельный суффикс, поскольку он имеет свою этимологию1, в отличие, например, от суффиксов -ах-, -ох-, -ех-, возникших “в результате различного рода аналогий и обобщений”2.
Кроме самостоятельного употребления, суффиксальный элемент - х- входит в состав сложного суффикса -хн(о). С данным формантом отмечено лишь две формы, причем из-за чрезвычайной краткости их усеченной основы трудно точно определить, к какому личному имени они восходят: Вахно (ПК) < Василий / Варлам / Иван; Сохно (ТПК) < Созон / Самуил / Самсон / Савел / Савин / Совостьян < Севастиан / Александр. Однако способ образования данных квалитативов не может трактоваться однозначно. Вполне вероятно, что первоначально они были образованы от личных имен, имевших в основе исконный звук х (типа: Михно < Михаил, Прохно < Прохор - примеры взяты из книги Б. Унбегауна3), либо от основы разговорной формы, в которой х образовался на месте ~ф (Сохно (ТПК) < *Сохрон < Софроний / *Сохон < Софония; Вахно (ПК) < Вахромей < Варфоломей). Это не позволяет однозначно интерпретировать словообразовательную структуру подобных форм, поскольку согласный х мог не входить в состав суффикса, а лишь являться частью основы разговорного варианта личного имени. Даже А.Н. Толкачев, категорически не соглашаясь с В. Симовичем, утверждавшим при анализе украинских антропонимов, что исконный суффикс -по первоначально присоединялся к основам с конечным -х-4, определяя морфемное членение подобных форм как Ми-хно, Про-хно, тут же в скобках задается вопросом: “Исх. Про-копий
(или Про-хор, Прох-ор?)”1. На наш взгляд, отсутствие в исследуемый период квалитативов с простым суффиксом -н(о), с одной стороны, и наличие форм на -хн(о) от имен, основа которых никогда не имела согласных х или ф, позволяет считать -хн(о) единым аффиксом, сложным по образованию, возникшим из последовательности двух некогда суффиксов (известно, что в древнерусском языке были достаточно употребительны имена с праславянскими по происхождению суффиксами -по, -епо, -ъпо2, приобретшим способность функционировать как единая формообразующая морфема. Отметим при этом интересный факт: зафиксированные в тверских памятниках немногочисленные нехристианские квалитативы с тем же суффиксом также образованы от апеллятивных имен с конечным -х (ср.: Брюхно < Брюхо, Глухно < Глухой), однако в данном случае нельзя исключать возможности наложения конечного -х основы и начального -х- суффикса.
Заметим, что все антропонимисты выделяют -хн- как единый суффикс, при этом нередко считается, что в старорусский период он был особенно характерен для новгородской территории. Тем не менее исследователи отмечают распространенность этого суффикса и в других 3 4
славянских языках: в украинском , в польском ; кроме того, в диалектах польского и белорусского языков до сих пор сохраняется непродуктивная модель образования уменьшительно-ласкательных существительных с этим суффиксом5. В.А. Никонов, анализируя северные фамилии, предполагает, что формант проник на северные территории с запада: “С западных территорий принесен общий для белорусского, украинского и западно-славянских языков суффикс -хно (Ивахнов)”6. Тем не менее у русских этот суффикс, безусловно, является территориально ограниченным. Вероятно, следует согласиться с тем, что он “возник из общеславянского фонда и получил широкое распространение в западно- славянских языках, а на восточно-славянской территории представлял диалектную черту западной локализации”1.
Тверские документы исследуемого периода фиксируют, как было отмечено, единичные факты употребления квалитативов с данным формантом; материалы других исследователей тоже показывают единичность этого суффикса в преднациональный период: так, на вологодской территории названный формант утратил к XVII в. свою продуктивность и встречался только в составе патронимов и топонимов2. Ю.С. Азарх отмечает, что “к моменту образования национальных языков тип антропонимов с суффиксом -хн- угасает во всех славянских языках”, предполагая при этом, что данный факт был связан с экспрессивностью названного форманта и его принадлежностью к народно-разговорной речи3.
Кроме того, суффиксальный -х- мог добавляться к другим суффиксам, однако подобные примеры в нашей картотеке являются единичными:
-х-ош(а): Лахоша (ТПК) < Лаврентий / Лазарь
-х-он(я): Вахоня (ПК) < Василий / Варлам / Иван
Однако и в данных примерах морфологическая отнесенность согласного х является трудноопределимой и членение приведенных форм может быть различным, в зависимости от того, как мы будем объяснять происхождение этих квалитативов: так, в случае образования приведенных форм от разговорных вариантов имен: Лахоша (ТПК) < Лахтион < Галактион, Вахоня (ПК) < Вахромей < Варфоломей (что представляется нам более вероятным) - данный элемент не является суффиксом, а входит в состав производящей основы, тем более при наличии в исследуемый период других форм на -он(я) и -ош(а).
В целом материал показывает, что все -х-суффиксы в исследуемый период на тверской территории были малопродуктивными, и квалитативы, образованные с их помощью, представляли собой единичные вкрапления в антропонимическую систему каждого из исследованных памятников письменности. Вероятно, продуктивность их уменьшалась и в дальнейшем. Так, М.Б. Серебренникова отмечает формы на -х в составе современных фамилий (ср.: Демехов, Мелехов, Терехов), замечая при этом, что «в настоящее время такие формы непродуктивны»1.
Источники и их сокращения
КБП - Новгородские писцовые книги. Т.6: Книги Бежецкой пятины. СПб., 1910
КНАМ - Грамоты Краснохолмскаго Николаевскаго Антониева монастыря. Тверь, 1904.
НВЖМ - Архивъ Новоторжскаго Воскресенскаго женскаго монастыря. Старица, 1910.
ПК - Писцовые книги Московского государства XVI века. Ч. 1 / Под ред. Н.В. Калачева. СПб., 1877.
ПСЭИ - Памятники социально-экономической истории Московского государства XIV - XVII вв. / Под ред. С.Б. Веселовского и А.И. Яковлева. Т. I. - М., 1929.
ТПК - Торопецкая писцовая книга 1540 года И Археографический ежегодник за 1963 год. М., 1964.
ЦБИ - К материалам для церковной и бытовой истории Тверскаго края в XV - XVI вв. / Под ред. М. Рубцова. Вып. II. Старица, 1905.