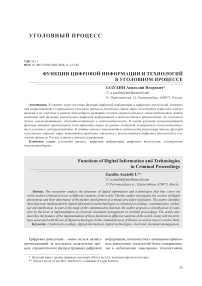Функции цифровой информации и технологий в уголовном процессе
Автор: Зазулин Анатолий Игоревич
Журнал: Вестник Омской юридической академии @vestnik-omua
Рубрика: Уголовный процесс
Статья в выпуске: 1 т.17, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье через изучение функций цифровой информации и цифровых технологий, которые они осуществляют в современном уголовном процессе различных стран мира, исследуется сущность данных явлений и их значение в рамках дальнейшего развития уголовно-процессуального законодательства. Автор выделяет три функции, реализуемые цифровой информацией и технологиями в производстве по уголовным делам: коммуникативную, доказательственную и интеллектуальную. В части изучения коммуникативной функции автором предлагается классификация стран по уровню внедрения электронного документооборота в уголовное судопроизводство. В статье также описываются особенности реализации данных функций в различных странах мира, выявляются проблемы, связанные с использованием цифровых технологий в уголовном процессе России, а также пути их разрешения.
Уголовный процесс, цифровая информация, цифровые технологии, электронный документооборот
Короткий адрес: https://sciup.org/143170978
IDR: 143170978 | УДК: 343.1 | DOI: 10.19073/2658-7602-2020-17-1-75-82
Текст научной статьи Функции цифровой информации и технологий в уголовном процессе
Цифровая революция – иначе нельзя назвать произошедший за последнее десятилетие процесс стремительного распространения цифровой информации, повсеместного замещения привычных аналоговых технологий более совершенными и мобильными «высокими» технологиями, основанными на цифровом способе обработки и передачи данных. Обсуждение и исследование воздействия последствий этой революции на правовую реальность стало главным вопросом, охватившим, подобно эпидемии, все научные площадки мира. Многие ученые отмечают, что новые реалии цифровизации общества обусловливают необходимость формирования нового взгляда на существующие правовые отрасли и институты [6, с. 13].
Стоит сказать, что отрасли права большинства стран мира можно условно поделить на две части. В первую входят классические отрасли права, сформировавшиеся еще в период господства аналоговых технологий – семейное и трудовое право, процессуальные отрасли права и т. п. Ко второй же части относятся отрасли, обязанные своим появлением цифровой революции и регулирующие принципиально новые, не известные ранее правовые отношения, – право интеллектуальной собственности, право искусственного интеллекта, право персональных данных и т. п.
По данным мировых опросов, качество регулирования общественных отношений, касающихся передачи, хранения и обработки цифровой информации в указанных новых отраслях права находится на высшем уровне. Уровень регулирования для процессуальных отраслей права остается средним [18]. Это объясняется тем, что для процессуальных отраслей права, включая уголовное судопроизводство, цифровая информация и цифровые технологии представляют собой новое явление, только начавшее вплетаться в правовую реальность.
В связи с изложенным выше возникает необходимость исследовать сущность цифровой информации и технологий с позиции науки уголовного процесса. С методологической точки зрения сущность любого явления может быть исследована и объяснена через определение его функций [4, с. 47] и именно такой подход позволяет более обстоятельно изучить то, как цифровые технологии внедряются в уголовный процесс и к чему это может привести.
Анализ отечественного законодательства и уголовно-процессуального права других стран позволяет выделить три главных функции, которые выполняют цифровые технологии и цифровая информация в ходе производства по уголовным делам.
Коммуникативная функция. Цифровая форма представления информации и ее передачи является способом обеспечения более быстрого и эффективного обмена данными между различными субъектами уголовного процесса. Электронное дело позволяет участникам процесса в считанные минуты с помощью доступных технических средств получить всю необходимую информацию и ознакомиться с соответствующими документами и доказательствами. За счет этого значительно сокращается время, затрачиваемое ими на осуществление своих прав и исполнение обязанностей, в том числе направление и получение документов либо сообщений. Логичным результатом этого становятся ускорение процесса расследования и рассмотрения уголовного дела и повышение эффективности юридических процедур в каждом отдельно взятом случае.
Однако коммуникативная роль электронного документооборота не сводится к сугубо практической задаче ускорения расследования преступления и рассмотрения уголовного дела. Это лишь самая очевидная сторона данного явления. Помимо нее, электронный документооборот представляет необходимое средство для увеличения степени «прозрачности» уголовного судопроизводства. Упрощение подачи документов и ходатайств в органы уголовного преследования, а также возможность быстрого получения от последних ответа на ходатайства и иной касающейся уголовного дела информации, служит новой гарантией обеспечения права граждан на информацию, предусмотренного ч. 2 ст. 24 Конституции РФ.
Трудно не согласиться с тезисом, что чем «прозрачнее» для участвующих лиц та или иная правовая процедура, тем более качественно она осуществляется, а уровень доверия и уважения общества к ее администратору (государству) увеличивается [2, с. 210].
Данный тезис находит свое отражение и в позиции Верховного Cуда РФ, который в постановлении Пленума от 13 декабря 2012 г. № 35 прямо указал, что «открытость и гласность судопроизводства являются гарантией справедливого судебного разбирательства, а также обеспечивают общественный контроль за функционированием судебной власти... открытое судебное разбирательство является одним из средств поддержания доверия общества к суду»1.
Сегодня достаточную степень открытости получили гражданский и арбитражный процессы, участники которых могут подать документы в суд в электронном виде через системы «МойАрбитр» и ГАС «Правосудие», а также отслеживать движение дела в соответствующих карточках дел. Более того, согласно абз. 2 ч. 4 ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации поданные сторонами документы и доказательства в рамках упрощенного производства размещаются в карточке дела в режиме электронного досье с ограниченным доступом только для участников дела.
Такие мероприятия не только делают производство «прозрачным», но и существенно снижают риск фальсификации доказательств и реализации коррупционных схем, доводя его до минимума. Это происходит, в частности, за счет сокращения личного общения между заинтересованными лицами [9, с. 62] и наличия единой цифровой системы, не позволяющей оформлять документы «задним числом». Как указывает А. Б. Сейнароев, «практика борьбы с коррупцией зарубежных стран свидетельствует, что использование информационных технологий во время расследований дает существенную экономию средств и нивелирует важность наличия больших финансовых ресурсов для проведения эффективных расследований» [12, c. 123–129].
Таким образом, внедрение электронного оборота в любую правовую процедуру приводит к следующим положительным результатам:
-
1) увеличение качества и скорости проведения процедуры, за счет чего повышается объем (максимум) разрешаемых дел;
-
2) увеличение степени прозрачности процедуры и сокращение коррупционных и фальсификационных рисков;
-
3) увеличение степени довольства общества правовой процедурой и повышение степени общественного доверия к государству.
Вместо оформления и передачи протоколов, рапортов, ходатайств и иных процессуальных документов в письменной форме, законодателями различных стран все чаще вводятся нормы о применении электронного документооборота.
При этом законодательства стран можно условно поделить на три категории по критерию степени внедрения электронного документооборота в уголовный процесс.
Полное включение электронного документооборота в уголовный процесс. Одним из самых прогрессивных в данном плане является Уголовно-процессуальный кодекс ФРГ (далее – УПК ФРГ), который предусматривает использование электронных документов в качестве общего правила, тогда как использование бумажной формы должно быть оправдано исключительными обстоятельствами невозможности использования цифровой техники [3, с. 340]. В обязательной электронной форме выносятся обвинительное заключение, судебный приказ и заключение прокурора. Согласно ст. 32f УПК ФРГ всем лицам, имеющим законный интерес в ознакомлении с делом, могут предоставляться распечатки содержимого файлов или цифровой носитель информации с записанными на него данными2.
УПК ФРГ также предусматривает обязательное ведение электронного досье, которое представляет собой форму систематизации и аккумуляции вынесенных в электронной форме правовых актов по уголовному делу, поданных ходатайств, собранных или представленных доказательств. Все исходные доказательства, не являющиеся электронными документами, должны быть оцифрованы и приобщены к электронному досье в виде файлов, подписанных электронной подписью [5, c. 76–80].
Уголовно-процессуальный кодекс Австрии предусматривает возможность передачи документов и сообщений, а также вынесения судебных решений в электронной форме. В соответствии со ст. 89c Федерального закона об организации судов, взаимодействие с участниками процесса через электронный документооборот обязательно для адвоката, защитника, нотариуса, кредитных и страховых учреждений, социальных и пенсионных организаций и орга-нов3. Австрийским законодателем предусмотрено формирование электронного досье, доступ к которому возможен для всех участников процесса при условии добросовестности его использования (ст. 89i Закона об организации деятельности судов), а также единой электронной базы судебных актов и уведомлений, размещенной в сети Интернет (ст. 89j Закона об организации деятельности судов)4.
Частичное включение электронного документооборота в уголовный процесс. Вместе с тем другие страны предпочитают использовать электронный документооборот в качестве альтернативы привычному порядку направления документов и юридически значимых сообщений. Так, согласно ст. 42-1 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан правомочный субъект может «переключаться» с электронного на аналоговый формат ведения уголовного дела5. В соответствии со ст. 85 Уголовно-процессуального кодекса Швейцарии, электронная форма доставки сообщений и документов может быть избрана тем или иным участником уголовного процесса в отношении себя, тогда как общим правилом доставки документов выступают почта либо нарочная доставка6. Законодательства данных стран не предусматривают обязательности электронного документооборота для участников уголовного процесса.
Не требуют подробного исследования примеры стран, в которых отсутствует включение электронного документооборота в уголовный процесс.
Обращаясь к отечественному уголовному процессу в рамках рассмотрения коммуникативной функции стоит заметить, что в настоящее время он далек от совершенства. В ходе производства по уголовному делу между органами уголовного преследования и остальными лицами встает препятствие, которое трудно преодолеть. И если на стадии судебного разбирательства процедуры более или менее «прозрачны» и удобны в техническом отношении (подача документов через ГАС «Правосудие», наличие минимальной информации в карточке дела на сайте суда, отправка судебных извещений посредством SMS-уведомлений и т. п.), то предварительное расследование является terra incognita для иных участников процесса.
Достаточно сказать, что многие следственные органы не имеют нормально действующего секретариата, через который можно подать соответствующее ходатайство следователю, а извещение участников процесса следователем происходит путем звонков и вызова в кабинет, почтовые отправления запаздывают и приходят в неактуальный срок. Нередко потерпевшие даже не могут получить информацию о том, какой следователь занимается их уголовным делом. Трудности встречаются и в ходе ознакомления с уголовным делом, которое может занимать длительный период и требовать постоянных согласований со следователем. Информация о поступлении и рассмотрении тех или иных ходатайств сторон не публикуется и часто доводится до них очень поздно. По сути, в ходе предварительного расследования «никто ничего не знает, пока не дозвонится, не нажалуется или ему не сообщат»7. Отсутствует какая-либо электронная карточка уголовного дела с минимальной информацией о нем.
Конечно, с одной стороны, подобную ситуацию можно объяснить тем, что гласность на досудебных стадиях уголовного процесса ограничена в силу угрозы еще не оконченному расследованию и существования рисков уничтожения преступником следов преступления [11, с. 111]. Кроме того, имеется прямо предусмотренный запрет на разглашение данных предварительного расследования, закрепленный в ст. 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ).
Между тем в рамках электронного оборота никто не говорит о необходимости публикации сведений об уголовном деле в открытом публичном доступе. Электронный оборот должен служить цели упорядочения обмена информацией только между участниками процесса. При этом у каждого участника процесса должен быть доступ к той части электронного досье, которая может быть ему доступна в силу процессуального статуса.
Технически это легко реализуется по примеру описанного выше упрощенного производства в арбитражном процессе: все документы по делу формируются в электронном досье, доступ к которому ограничен и имеется только у участников процесса в объеме, соответствующем их процессуальному положению: полный доступ предоставляется только следователю. Так, гражданский истец и ответчик могут получить доступ только к тем материалам уголовного дела, которые в силу пп. 10, 12 ст. 44 или п. 9 ч. 2 ст. 54 УПК РФ имеют отношение к гражданскому иску. Подозреваемый же, например, имеет доступ только к тем документам, которые связаны с поданными им ходатайствами или составлены в его присутствии (с его участием).
Более того, предоставление доступа к электронному уголовному делу кажется перспективным решением проблемы частого злоупотребления сторонами правом ознакомления с уголовным делом после окончания предварительного следствия в порядке ст.ст. 216–217 УПК РФ [7, с. 30–34; 16, с. 61–63]. Разумным было бы для обвиняемых, не находящихся под стражей, их представителей, а также иных участников процесса предусмотреть альтернативную возможность ознакомления с делом путем предоставления доступа к электронному досье, содержащему все необходимые документы, постановления, доказательства. Это решило бы проблему постоянных визитов адвоката к следователю, траты времени на фотографирование, выписывание, согласование со следователем графика ознакомления и т. п. При этом лицо, получившее доступ к своей версии электронного дела, автоматически лишается возможности каким-либо образом недобросовестно затянуть ознакомление.
Доказательственная функция. Доказывание справедливо считается движущей силой, ядром уголовного процесса [8, с. 81; 15, с. 7]. С одной стороны, цифровая информация может выступать в качестве первичного следа, т. е. сведений о совершенном преступном деянии, отраженном в виде двоичного кода, записанного на специальном носителе. К таким следам могут относиться цифровые видео- и аудиозаписи, электронные документы, сообщения электронной почты и мессенджеров. В данных примерах цифровая информация служит основным элементом уголовно-процессуального доказательства – сведениями, и представляет собой одну из форм (наряду с аналоговой письменной) подачи (существования) таких сведений.
Наличие первичных цифровых следов преступления предполагает необходимость их закрепления (фиксации) в уголовном деле в процессе его расследования. Благодаря недавним поправкам в УПК РФ (введение в него ст. 1641) у правоохранительных органов появилась возможность использования не только обычного изъятия носителя цифровой информации, но и копирования цифровой информации на съемный и мобильный носитель, что является значительным шагом вперед. Важно в данном случае то, что цифровая информация выступает предметом фиксации, объектом, на который направлена поисковая деятельность следователя.
С другой стороны, цифровые технологии могут служить способом фиксации следов преступления, существующих в нецифровой форме. Как отмечают Д. А. Бурыка, Е. В. Егорова и М. В. Меркулова, «современные цифровые устройства несут в себе мощный потенциал в области фиксации аудиовизуальной информации, во многом превзойдя аналоговые средства» [1, с. 230] . Сейчас при широком распространении цифровых устройств не только в обыденной жизни, но и в деятельности криминалистов часто следы крови, взрыва, показания лиц на допросе, помимо протоколирования, в большинстве случаев фиксируются с помощью цифровых устройств: фотоаппаратов, видеокамер, диктофонов. Преимущества цифровых устройств очевидны: мобильность и скрытность производства записи, отсутствие шумов, простота применения, заниженные требования к оператору записывающего устройства [13, с. 221]. Например, цифровой фотокамерой можно сделать необходимое количество фотоснимков материальной обстановки места происшествия с максимальной степенью детализации, осуществляя при этом контроль качества фотографической фиксации, а также печать фотоснимков на фотопринтере непосредственно на месте производства следственного действия [14, с. 3].
В настоящее время не остается сомнений в том, что именно цифровые технологии помогают наиболее объективно отразить и зафиксировать следы преступления за максимально короткий срок. Именно поэтому все следственные и криминалистические подразделения Следственного комитета укомплектованы современными цифровыми устройствами [14, с. 3].
При фотографировании, видео- или аудиозаписи на цифровое устройство происходит процесс перекодирования аналоговой информации (изображения места происшествия, следов и т. д.) в цифровую, записанную на соответствующий носитель (файл на флэш-карте или оптическом диске, приобщенным следователем к материалам уголовного дела). Цифровые технологии в таком случае играют роль средства фиксации первичной доказательственной информации.
Применение цифровых средств фиксации следов позволяет также, как в случае с электронным документооборотом, повысить эффективность уголовного процесса за счет:
– ускорения процесса собирания доказательств;
– ускорения фиксации доказательств, что позволяет запечатлеть и сохранить больше следов преступления;
– увеличения степени достоверности собранных доказательств;
– увеличения степени репрезентации доказательств, что позволяет более качественно изучить их на стадии судебного следствия.
Интеллектуальная функция. Данная функция цифровых технологий связана с развитием искусственного интеллекта, который может в будущем стать помощником следователя, прокурора и судьи, производя анализ собранных данных в целях автономного вынесения процессуальных решений либо дачи соответствующей правовой рекомендации.
Сейчас, в период развития технологий искусственного распознавания личности, быстрой обработки большого объема данных и самообу-чаемых цифровых помощников, искусственный интеллект (далее – ИИ)8 только начинает свое распространение в повседневной жизни [10, c. 53–69]. Между тем уже появляются первые предвестники грядущей необходимости решить вопрос о внедрении искусственного интеллекта в уголовный процесс.
Так, в начале 2019 г. в Шанхайском втором промежуточном суде состоялось рассмотрение уголовного дела с использованием искусственного интеллекта, а именно программы «206 system», демонстрировавшей на специальных экранах визуальные и скан-копии доказательств и материалов уголовного дела для участников процесса. Эта программа может самостоятельно вести допрос, проводить предварительную оценку доказательств и проверку на законность следственных действий9.
В Эстонии планируется внедрение ИИ, который будет выносить предварительные приговоры и решения по уголовным делам, а в некоторых штатах США компьютеры предоставляют рекомендации по вынесению приговоров10. Как пишут американские исследователи, «возможно будущее, в котором расследование преступления, судебное разбирательство и назначение наказания будет осуществляться единой автоматической и автономной от человека цифровой системой» [17, с. 251]. Опасения в данном контексте вызывает риск возникновения «цифровой тирании», описанной в замечательном рассказе Ф. Чиландера «Судебный процесс»11.
Разумное же использование цифровых технологий, основанных на ИИ, в уголовном процессе позволит унифицировать следственную и судебную практику, повысить скорость и эффективность производства следственных действий и принятия процессуальных решений. Так, анализ материалов уголовного дела или судебной практики можно поручить ИИ, который сократил бы трудозатраты органов уголовного преследования на анализ большого массива информации. Использование ИИ также может существенно сократить количество допущенных технических ошибок, устранение которых занимает значительное время. В частности, созданный интеллектуальный помощник мог бы напоминать участнику процесса об истечении процессуальных сроков или несоблюдении условий совершения того или иного процессуального действия.
Естественно, внедрение технологий, основанных на ИИ, – это последний шаг на пути к цифровизации уголовного процесса, и он не может быть осуществлен в системах, где цифровые технологии еще не реализуют в полной мере свои коммуникативную и доказательственную функции. Без электронного уголовного дела ИИ будет нечего анализировать; в отсутствие цифровой фиксации доказательств он не сможет провести их предварительную оценку на допустимость и достоверность.
Раскрытые выше функции цифровой информации и цифровых технологий во многом от- ражают их главное значение для уголовного процесса. Внедрение цифровых технологий – не просто способ модернизации уголовного судопроизводства, а жизненно важное условие его дальнейшего существования в мире бесконечных массивов данных и информационного господства. Государства, сделавшие акцент на развитие информационно-процессуальных технологий и правоотношений, смогут в ближайшем будущем гарантировать своим гражданам более защищенную среду и более свободное общество. Они также смогут эффективно бороться с представляющей большую угрозу и для самого государства киберпреступностью.
Список литературы Функции цифровой информации и технологий в уголовном процессе
- Бурыка Д. А., Егорова Е. В., Меркулова М. В. Правовые и тактические особенности производства отдельных следственных действий: моногр. М.: Юрлитинформ, 2015. 352 с.
- Бухарев А. В. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности судебной системы на современном этапе судебной реформы // Вестник Костромского государственного университета имени Н. А. Некрасова. 2015. Т. 21, № 3. С. 207-210.
- Головненков П., Спица Н. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной республики Германия - Strafprozessordnung (StPO). Научно-практический комментарий и перевод текста закона. Потсдам: Университет Потсдама, 2012. 405 с.
- Ефимов О. Н. Функции явления как научная проблема // Дискуссия. 2014. № 11 (52). С. 47-50.
- Зазулин А. И. Нормативное обеспечение электронного документооборота в уголовном судопроизводстве: опыт ФРГ // Правопорядок: история, теория, практика. 2018. № 4 (19). С. 76-80.
- Карцхия А. А. Цифровая революция: новые технологии и новая реальность // Правовая информатика. 2017. № 1. С. 13-18.
- Костенко К. А. Проблемы теории и практики противодействия затягиванию ознакомления с материалами уголовного дела путем приглашения обвиняемым нового защитника // Российский судья. 2016. № 9. С. 30-34.
- Костенко Р. В. Проблемные вопросы определения сущности, понятия и элементов процесса доказывания по уголовным делам // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2011. № 1. С. 81-89.
- Мойсиевская А. К. Реализация антикоррупционной политики в условиях цифровизации экономики и общества // Научные записки молодых исследователей. 2018. № 3. С. 62-68.
- Морхат П. М. Искусственный интеллект: правовой взгляд: моногр. М., 2017. 257 с.
- Сегал О. А. Проблемы реализации гласности в уголовном процессе РФ: дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2004. 198 с.
- Сейнароев А. Б. Информационные технологии в реализации антикоррупционных практик на региональном уровне // Вестник экспертного совета. 2015. № 3 (3). С. 123-129.
- Хаитжанов А., Глазков А. С. Аудиозапись (фонограмма) как доказательство в уголовном процессе // Труды международного симпозиума "Надежность и качество". 2011. Т. 1. С. 221-224.
- Холопов А. В. Применение цифровых технологий фиксации аудиовизуальной информации в уголовном производстве: учеб. пособие. СПб.: С.-Петерб. юрид. ин-т (филиал) Акад. Генпрокуратуры РФ, 2010. 68 с.
- Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования: моногр. М.: ИНФРА-М, 2009. 240 с.
- Яковлева С. А., Криворотов С. Н. Вопросы квалифицированной защиты на этапе ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела // Марийский юридический вестник. 2017. № 1 (20). С. 61-64.
- Calo R., Froomkin M. A., Kerr I. Robot Law. Northampton: Edward Eglar Publishing, 2016. 402 р.
- Industrie 4.0 - Rechtliche Herausforderungen der Digitalisierung. Ein Beitrag zum politischen Diskurs. Berlin: Industrie-Förderung GmbH, 2015. URL: https://bdi.eu/media/presse/publikationen/information-und-telekommunikation/201511_ Industrie-40_Rechtliche-Herausforderungen-der-Digitalisierung.pdf