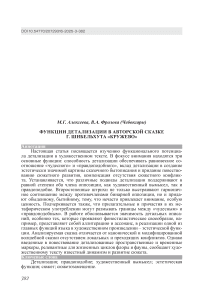Функции детализации в авторской сказке Г. Шибельхута «Кружево»
Автор: М.Г. Алексеева, В.А. Фролова
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья посвящается изучению функционального потенциала детализации в художественном тексте. В фокусе внимания находятся три основные функции: способность детализации обеспечивать равновесное соотношение «чудесного» и «правдоподобного», вклад детализации в создание эстетически значимой картины сказочного бытописания и придание повествованию сюжетного развития, компенсация отсутствия сюжетного конфликта. Устанавливается, что различные подвиды детализации поддерживают в равной степени оба члена оппозиции, как художественный вымысел, так и правдоподобие. Второстепенные штрихи не только выстраивают гармоничное соотношение между противочленами бинарной оппозиции, но и придают обыденному, бытийному, тому, что нечасто привлекает внимание, особую ценность. Подчеркивается также, что прилагательные и причастия в их метафорическом употреблении могут размывать границы между «чудесным» и «правдоподобным». В работе обосновывается значимость детальных описаний, особенно тех, которые проявляют фоностилистическое своеобразие, например, представляют собой аллитерацию и ассонанс, в реализации одной из главных функций языка в художественном произведении – эстетической функции. Анализируемая сказка отличается от канонической и модифицированной волшебной сказки отсутствием локальных и преходящих конфликтов. Однако введенные в повествование детализованные пространственные и временные маркеры, релевантные для жизненных циклов флоры и фауны, сообщают художественному тексту известный динамизм и развитие сюжета.
Детализация, правдоподобие, художественный вымысел, эстетическая функция, сюжет, сюжетозамещение
Короткий адрес: https://sciup.org/149149407
IDR: 149149407 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-382
Текст научной статьи Функции детализации в авторской сказке Г. Шибельхута «Кружево»
Введение в проблему исследования
Феномен детализации и ее функциональный потенциал в художественном тексте довольно редко становятся предметом лингвистических исследований. Подробное описание предметов и явлений обычно рассматриваются как нечто второстепенное по своей важности, часто используется как средство характеристики персонажа, его речевой деятельности, подчеркивает наблюдательность автора [Ризель, Шендельс 1975, 113–114]. Словарь литературоведческих терминов [Белокурова 2005] определяет художественную деталь как одно из средств создания образа: выделенный элемент художественного образа несет смысловую и эмоциональную нагрузку в произведении. Детализация может затрагивать описываемые быт, обстановку, пейзаж, портрет, интерьер, действия, психические состояния героя. В качестве основной функции детализации, как правило, указывается достижение автором исчерпывающей полноты изображения.
Концептологические основания исследования
В исследовании мы опираемся на положения Н.Н. Панченко [Панченко 2009] и А.Е. Махова [Махов 2020] о принципах правдоподобия и условности художественного вымысла, на концепцию гармоничного соотношения правдоподобного и неправдоподобного, на мысль об идеальном сюжете художествен- ного произведения со сбалансированной оппозицией «правда» – «чудесное», предложенную Р. Рапеном.
Выводы В.А. Келдыша [Келдыш 2010] и Т.Л. Кузнецовой [Кузнецова 2012] о значимости второстепенных штрихов, о детализации будничной повседневности и о познании бытия через обыденность также легли в основу некоторых положений нашего исследования. Ключевыми в работе также являются представления Ю.М. Лотмана [Лотман 1994; Лотман 1998] и В.Е. Хализева [Хали-зев 2004] об эстетическом переживании художественных произведений, о значимости эстетической реакции реципиента на произведение искусства, положения В.Е. Хализева о важности пространственно-временных отношений для сюжетосложения словесного художественного произведения [Хализев 2004].
Постановка проблемы
Авторская сказка немецкого писателя-экспрессиониста Г. Шибельхута «Ein Spitzenmärchen» [Schiebelhuth 1979] обнаруживает особенность, не характерную ни для классической волшебной сказки (см. признаки волшебной сказки [Пропп 2022]), ни для большинства авторских (литературных) сказок, представляющих собой структурно-смысловые дериваты волшебной сказки. Особенность сказочного повествования анализируемого художественного произведения заключается в избыточности детализированных описаний, в «прорисовывании» и любовании всеми подробностями сказочной картины.
Содержание сказки незамысловатое: рассматривая чудесное кружево, автор вспоминает историю и место его создания – летний луг, встречу принцессы-эльфа (Elfenprinzessin) и сына лесного царя (Erlkönigs Sohn), их последующую свадьбу и, конечно же, кружевной свадебный наряд принцессы, в создании которого принимал участие весь крошечный лесной народ. Примечателен тот факт, что сказка была написана, вероятно, на заказ, впервые она была опубликована в специализированном ежемесячнике, поддерживающем ремесла вышивания и кружевоплетения (Stickerei und Spitzen. Illustriertes Monatsheft zur Förderung der deutschen Stickerei und Spitzen. Darmstadt, 1924, Oktober-Heft) [Schiebelhuth 1979, 516].
Цель данного исследования состоит в установлении функций и видов детализации и их корреляции друг с другом в художественном тексте.
Методология
Для достижения поставленной цели нами были использованы следующие методы исследования: метод сплошной выборки художественного текста, некоторые подвиды лингвистического анализа текста, например, выявление особенностей словаря писателя, собственно лексический анализ текста, уровневый (фоностилистический) анализ лексических единиц, повышающих эстетическую ценность художественного текста.
Обсуждение
В настоящей работе мы предполагаем, что функциональный потенциал детализации в художественном тексте значительно шире, чем полнота изображения автором предметов или явлений. Во-первых, детализация обеспечивает равновесное соотношение «чудесного» и «правдивого, правдоподобного» в художественном тексте; во-вторых, поддерживает эстетическую значимость художественного текста; в-третьих, детализированное описание фактически заменяет собой сюжет, проявляя при этом свои компенсаторные возможности. Рассмотрим каждую из этих функций подробнее.
Правда и вымысел в искусстве вступают в сложные взаимоотношения. Создаваемый вымысел ориентируется на правду, а жизненная правда трансформируется в искусстве в вымысел. С точки зрения Н.Н. Панченко правдоподобие в художественном произведении синонимично понятию достоверности, но антонимично подлинности [Панченко 2009, 39]. Правдоподобие обеспечивает доверие читателя, наделяет фикциональное чертами реального. Воссозданная «вторая» действительность в искусстве подлежит, прежде всего, художественному переживанию, реакция на нее со стороны реципиента должна быть эстетической. Чтобы оказывать воздействие на читателя или зрителя, искусство должно соотноситься с действительностью, но не совпадать с ним. Последнее означало бы разрушение искусства [Лотман 1994, 69–70]. Категории правдоподобия посвящает свое исследование и А.Е. Махов. На примере французского классицизма автор разрабатывает триаду определения правдоподобия, связывая его с принципами подражания и убеждения. А.Е. Махов подчеркивает, что доверие реципиента к изображаемому, обеспеченное в свою очередь правдоподобием, позволяет испытать реципиенту сильные чувства; возбуждаемые реципиентом чувства приводят к улучшению «нравов», что и является целью искусства [Махов 2020, 12–20].
Степень или градация правдоподобного и чудесного в художественном произведении разнятся, как указывает Н.Н. Панченко, в зависимости от жанра произведения. Так, правдоподобие в реалистическом жанре не тождественно степени правдоподобия в жанре фэнтези [Панченко 2009, 41].
Р. Рапен рассуждает о необходимости правильного сочетания в совершенном сюжете правдоподобных и чудесных событий. Достойной восхищения фабула становится благодаря правдоподобию. «Чудесное» само по себе не может нравиться без правдоподобия, оно кажется реципиенту слишком необыкновенным. Однако одно лишь правдоподобие слишком мрачно и вяло для поэзии, следовательно, необходимо соединение этих двух компонентов. Ведь публика получает удовольствие от «чудесного», если в него можно поверить (цит. по А.Е. Махову [Махов 2020, 22]).
Детализация, с нашей точки зрения, поддерживает в анализируемом художественном тексте в равной степени как чудесное, так и правдоподобное, обеспечивает их гармоничное сочетание друг с другом. Г. Шибельхут подробнейшим образом описывает реалистичные предметы и явления обыденной действительности. Среди них можно выделить следующие группы:
-
1) многочисленные гипонимы (части растений – цветов и деревьев): Wipfel, Same, Blüte, Blatt, Stengel, Stiel, Gefäß, Halm, Faser, Gewürzel, Kelch (der Blume), Rinde, Krone , Dolde. Намного реже встречаются в художественном тексте гиперонимы: Blume, Baum, Staude (в значении «куст(ик)»);
-
2) ботанические названия растений (цветков и деревьев), которые можно обозначить как своего рода гипонимы, например: Federnelke, Lilie, Wicke, Winde, Wasserrose. Особо можно выделить две лексемы, стоящие несколько изолированно, они относятся к области флоры лишь опосредованно: Gummet (сельскохозяйственная отава), Wasen (сырая земля, дерн);
-
3) названия насекомых (в том числе бабочек), паукообразных, реже – животных и птиц: Glühwürmchen, Grille, Falter (Traumfalter, Nachtfalter, Wiesenfalter), Heuhüpfer, Heuschreck(e), Fuchs, Wiesel, Zaunkönig, Eule ;
-
4) праздничное кружевное одеяние эльфийской принцессы, выступающее как структурно-смысловая доминанта, репрезентируется следующими лексемами: Spitzentuch, Tuch, Gewebe (одеяние на стадии изготовления ткани), Brautgewand, Festgewand, Schleppe, Schleier, Spitzenschmuck, Feierkleid, Staat (в значении «наряд, туалет»). К этой же группе можно отнести единственное в сказочном повествовании описание мужского наряда: Eskarpin, grasgrüner Frack, Einglas ;
-
5) следующую группу образует ряд специфических терминов и общеупотребительных слов (существительных и глаголов), подробно описывающих процесс ткачества и вышивания: Knoten, Faden, Garn, Webwerk, Webstuhl, Spinnrad, Spule, Spindel, Webfang, Lammwolle, Flaum, Flocke, Filz, Fadenknäuel, Strahn; глаголы waschen, bleichen, zusammenspinnen, wirken (в значении «ткать, вязать»), ordnen, (zu)richten, färben, sichten (в значении «сортировать»). Фрагменты, посвященные изготовлению свадебного одеяния принцессы эльфов, насыщены второстепенными деталями.
Тяготение Г. Шибельхута к описанию обыденных, незыблемых в своей неизменности рутинных действий объясняется, возможно, желанием уйти от катастрофичности надвигающихся социально-политических процессов в Германии 20-х гг. XX в. [Barth 1985]. Период, иногда характеризуемый как «Золотые 20-е» (die Goldenen Zwanziger Jahre), фактически таковым не являлся: военный и политический крах кайзеровской Германии, как следствие проигранной войны, потрясение традиционных ценностей и норм, неудавшаяся революция 1918 г., упадок демократии и так называемая «хрупкая стабильность» 1924–1929 гг., смена в искусстве одного стиля другим – экспрессионизм, дадаизм, новая деловитость. Все находится в смятении и в отсутствии ориентиров [Deutsche Literaturgeschichte… 2008, 387–388; Geschichte der deutschen Literatur… 1984, 156]. Именно в это время создается сказка «Ein Spitzenmärchen», в которой житейско-бытовой уровень получает особый статус. Как пишет Т.Л. Кузнецова, мысль о значимости повседневных явлений связана с ослаблением роли человека, он предстает не как преобразователь мира, а как существо, живущее с миром в гармонии. Повседневность приобретает самоценность, и через быт познается бытие [Келдыш 2010, 176; Кузнецова 2012, 99–102]:
Sie fingen die weißen Sommerfäden in der Luft ein und brachten sie den Elfen auf den Plan. Dort wurden die zarten Fäden in klarem Quellwasser gewaschen und im lichten Sonnenschein gebleicht. Dann wurden aus allem Garn große Fäden zusammengesponnen, und das Webwerk begann. An eine Haselstaude hin wurde der Webstuhl erbaut. Als Spinnrad diente das Rad der Kamille, Spule war ein Salbeiknoten, die Spindel war eine Wegerichblüte, und als Webfang diente eine große Dolde von Dill [Schiebelhuth 1979, 291].
Другой член бинарной оппозиции – «чудесное» – также актуализируется в исследуемом тексте с помощью детализации разных видов. Первую группу образуют гиперонимы, относящиеся к чудесным мифологическим существам, например, Seelengeister, Windgeister (их подвид дриады или лесные нимфы), Geschöpfe, Völker der Baumgeister, Naturgeister, и гипонимы: Elfen, Erlkönig, Dryaden, Wurzelzwerge, Purzelzwerge, Kobolde, Seenymphen (как вариант Nymphen vom See), Nymphen von den Quellen. Во-вторых, это прилагательные и причастия в функции определения. Особенность этой группы заключается в том, что они могут характеризовать как реальные, так и воображаемые предметы и явления, фактически «состоят на службе» у двух миров. Приведем примеры определений правдоподобных объектов: durchsichtig (Rippe eines Blattes), zart (Gewürzel), erlesen (Blumen), süß (Zeit), zart (Fäden), klar (Quellwasser), licht (Sonnenschein), wunderschön, lau (Sommernacht), tüllendes (Geweb), perlmuttrig schillernd (Fadenknäuel), feuerrot (Seidenfäden), schneeweiß (Fäden), süß und zart (Nächte), sanft (Wind), mild, gütig (Stern), zärtlich (Wiesenfalter), schneidig (Heuhüpfer), altmodisch (Nachtfalter), schneidig, galant (Heuschreck), prunkend (Schloss) (см. также Э.Г. Ризель о стилевой универсальности эпитета в метафорическом употреблении süß [Ризель, Шендельс 1975, 243]). Выделенные нами определения, употребленные в метафорическом смысле и имеющие задачу персонификации (антропологизации), лишь условно принадлежат правдоподобным описаниям, маркированные нами прилагательные переводят определяемое из мира действительности в мир чудесного. В тексте литературной сказки также были зафиксированы примеры определений, относящихся к воображаемым существам: zart (Elfin), übermütig (Engelliedchen), hurtig (Elfen), hell (Stimmchen von Elfen), wacker (Windgeister), behend (Hände von Elfen), schäkernd (Kobolde), zierlich (Elfen), leichtfüßig (Schleppenjungfer). В ходе сказочного повествования определения становятся имманентной частью мифологических существ, Г. Шибельхут намеренно заменяет названия чудесных созданий, выраженных именами существительными, на субстантивированные прилагательные: (die) Zielrliche(n) (об эльфах как об изящных, грациозных, изысканных существах), Unermüdliche (об эльфах как о не устающих, вечно хлопочущих созданиях), diese Treuen (о дриадах как о верных духах).
Особую группу образуют прилагательные в превосходной степени сравнения: liebenswertest (Seelengeister), fröhlichst (Ritter unter der Sonne), fröhlichst (Wesen), gütigst (Wesen). К любимым авторским эпитетам Г. Шибельхута (Lieblingsepitheton, см. подробнее [Ризель, Шендельс 1975, 342–343]) в этом художественном произведении можно отнести прилагательное schön , оно употребляется четыре раза в превосходной степени в относительно небольшом по объему тексте: das schönste Material, die schönsten grünen Algenfäden, die Allerschönste, die Elfenschönste . К группе прилагательных в превосходной степени мы также относим прилагательные (и наречия) в положительной степени сравнения, обладающие семантикой с высокой степенью выраженности того или иного качества: über und über (совершенно, вполне), durchaus (вполне, совершенно, абсолютно), (hundert elfen)ellenlang (очень длинный), grundgutmütig (добрейший).
Детализирующие имена прилагательные и причастия в функции определения не только стимулируют установление равновесной корреляции в оппозиции «правдоподобное» vs. «чудесное», в художественном тексте «определительная детализация» также способствует реализации ключевой функции языка в литературно-художественном произведении – эстетической. Согласно В.Е. Хализеву, главным предназначением произведений искусства является их восприятие как эстетической ценности. Сам материал художественных образов, например, звук в музыкальном произведении или слова с их фонетическим обликом имеют чувственный характер и апеллируют к эстетическому восприятию реципиента. Особенно важной нам представляется мысль литературоведа о том, что эстетическое не только преломляется в произведения искусства, но и создается в результате творческого акта [Хализев 2004, 41–42]. В анализируемом нами тексте мы наблюдаем именно созданную Г. Шибельхутом эстетически ценную фантастическую картину бытия сказочного народа. Прелесть лесных полян и речных долин манифестируется автором посредством многочисленных детально прорисованных поэтических описаний (в том числе поэтизмов в узком понимании этого термина) и олицетворений. Писатель-экспрессионист рассматривает созданный им мир как чудесную вещицу, поворачивая его перед взором читателя то одной, то другой гранью. Г. Шибельхут искренне любуется диковинкой и не скупится на детали:
-
1) Poesie des Blumenangers, erlauchtes (поэт.) Gefäß der Blumen, Fäden der Schwermut, der Ruch (поэт.) von Wiesenerde und Sonnenschein, Blumentheater, Jungfer (поэт.) , die ganze Wiese war ein einziger Reigen, und die Welt (war) ein Meer voll Süßigkeit und Musik ;
-
2) примеры олицетворения: der Duft und die Seele von tausend Blumen; die Nacht küsste die Sehnsucht der Auen; der Mond sah herunter mit vollem Gesicht freundlich; der Bach murmelte Melodien; der Wind… flüsternd und rauschend; der Wind blies den Bass. Последний пример иллюстрирует также использование фоностилистических средств, усиливающих эстетическую составляющую литературного произведения (см. также [Lexikon der Sprachwissenschaft 2008, 528, 29; Ризель, Шендельс 1975, 194–196]).
В основном речь идет об употреблении аллитерации, традиционного германского фоностилистического средства ( Wicke und Winde, schauten ihnen staunend, Grillen geigten so lustig auf ), ассонанса (или созвучия) ( mit Gaukeln und Schaukeln, gerichtet und gesichtet, mit behänden Händen den Tüll besticken ) vs. контраста гласных разного подъема языка, например, высокого и низкого ( weinten und klagten ). В некоторых случаях обнаруживается использование двух фоностилистических средств ( wiegen und wohnen, hurtige Elfen huschten, Wind und Wiese, der muntere Bach murmelte ).
Кроме эстетической функции детализация в исследуемом художественном тексте выполняет с нашей точки зрения сюжетозаместительную функцию. Сюжет, как правило, составляет динамический стержень, каркас, на котором держится художественное произведение. В нем обозначается цепь событий, воссозданная в литературном произведении, то есть жизнь персонажей в ее пространственно-временных изменениях, в сменяющих друг друга положениях и обстоятельствах. В сюжете принято различать начало, середину и конец, обуславливающиеся причинно-следственными закономерностями, а также отношением говорящего к содержанию того, о чем рассказывается [Хализев 2004, 249]. В.Е. Хализев подробно классифицирует разновидности сюжета, выделяя в литературе сюжеты единого действия (концентрические или центростремительные) и многолинейные (центробежные или кумулятивные). Воссоздание жизненных противоречий или конфликтов («драматизм» сюжетов) является одной из самых важных функций сюжета (см. также в издании «Словарь литературных терминов» понятия «сюжет и конфликт в его основе» [Белокурова 2005]). Среди типов сюжетных конфликтов В.Е. Хализев различает сюжеты с локальными и преходящими конфликтами и сюжеты с устойчивыми конфликтными (субстанциальными) состояниями. Последняя группа является неоднозначной, неканонической по своей сути, конфликты, лежащие в основе этих сюжетов, являются неразрешимыми в принципе, соответственно, художественное произведение не имеет развязки, оно диалогично и дискуссионно.
Первая группа сюжетов достаточно хорошо изучена в литературоведении, например, В.Я. Проппом в его работе «Морфология сказок» [Пропп 2022, 47–105].
Изменение классических функций действующих лиц в сказочном повествовании или трансформация локальных и преходящих конфликтов может радикально изменить текст канонической волшебной сказки. Сюжеты первой группы являются архетипическими и доминируют в многовековой литературе. Авторы, выявляющие и разрешающие окказиональные конфликты, стремятся развлечь, утешить реципиента, укрепить в читателе веру в хорошее, стремятся представить бытие как упорядоченное, устойчивое, имеющее смысл. Особенно в сказках вера в гармоничное бытие обретает, как пишет В.Е. Хализев, тона розового оптимизма [Ха-лизев 2004, 250–259].
В описываемом нами сказочном повествовании фактически нет конфликта (этим сказка «Ein Spitzenmärchen» отличается от канонической и трансформированной волшебной сказки). Означает ли это, что данное произведение и вовсе бессюжетно, как бессюжетны бывают словари, телефонные книги и календари, каркасом которых выступает унификация представленных лексем по определенным критериям и порядок их расположения в тексте [Лотман 1998, 171]. Опираясь на концепцию В.Е. Хализева о том, что время и пространство составляют основу сюжета [Хализев 2004, 248–249], мы полагаем, что детализация временных и пространственных характеристик обеспечивает компенсацию отсутствия сюжетного конфликта, выстраивает прочную структурную основу повествования. Описание пространства в сказке Г. Шибельхута ограничивают сказочный мир пределами луга, речной долины и равнины (Aue, Anger, Plan). Сказочное повествование пронизано подробными, расположенными в хронологической последовательности временными маркерами, значимыми для мира флоры и фауны. Действие начинается в мае и заканчивается осенью, когда лесные духи перемещаются в зимние дворцы на дно озер. В форме буквально дневниковых записей Г. Шибельхут ведет хронику подготовки к свадебному торжеству: im Mai, als sich der Rasen begrünte; Junitage der ersten Mahd; am Abend dieses Tages; in den folgenden Nächten; Es war eine wunderschöne, laue Sommernacht; und ums Tagesgrauen; Nacht für Nacht saßen sie und bestickten <…> den Tüll; Aber so emsig sie auch wirkten, sie brauchten doch einen ganzen Mondwechsel lang, bis das Gewand mit der großen Schleppe über und über bestickt war; die Nächte waren süß… usw. [Schiebelhuth 1979, 291–294].
В тексте также представлены многочисленные косвенные образы времени, признаки календарного представления о движении, это и жизненные циклы растений – от первых всходов, отрастания травы после покосов, цветения деревьев, до развития семян ( begrünen, die erste Mahd, Gummet, Blüte, Diestelflocke, Löwenzahnsame ), сюда же можно отнести сменяемость процессов в организме у представителей животного мира, например, сезонная линька зимней шерсти (… sie fanden feuerrote Seidenfäden, wo ein Fuchs sich gehaart hatte, und schneeweiße in den Rindenklammen, wo sich ein Wiesel den Winterpelz rieb). Глаголы движения ( schwärmen, tanzen, hüpfen, wiegen, gaukeln, schaukeln, huschen ), частично глаголы действия, особенно относящиеся к процессу ткачества, вышивания (ср. также значение ткацкого станка в греческой мифологии) и прилагательные с семантикой «проворность, подвижность, расторопность» ( behend, emsig, schneidig, hurtig ) также вносят лепту в динамизацию текста и созданию сюжетного узора жизни.
Таким образом, детализация в художественном тексте обнаруживает широкую палитру функций: поддержание равновесия на оси «правдоподобное» vs. «чудесное», манифестация эстетической функции как основной функции языка в литературно-художественном произведении, компенсация бессю- жетности, замена конфликта, драматизма, являющихся основой канонических и неканонических сюжетов, детализацией пространственно-временных маркеров.