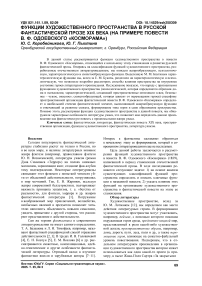Функции художественного пространства в русской фантастической прозе XIX века (на примере повести В. Ф. Одоевского «Косморама»)
Автор: Юлия Сергеевна Коробейникова, Юлиана Григорьевна Пыхтина
Рубрика: Литературоведение. Журналистика
Статья в выпуске: 3 т.25, 2025 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматриваются функции художественного пространства в повести В.Ф. Одоевского «Косморама», относящей-ся к начальному этапу становления и развития русской фантастической прозы. Опираясь на классификации функций художественного пространства, разработанные отечественным литературоведением, мы описали жанрообразующую, психологическую, характерологическую и сюжетообразующую функции. Выделенную М.М. Бахти-ным характерологическую функцию, мы, вслед за Е.М. Букаты, разделили на характерологическую и психологическую, что позволило подробно рассмотреть способы влияния пространства на внутреннее состояние героев литературного произведения. Исследование показало, что наряду с признанными функциями художественного пространства (психологической, которая определяется образами дома и псевдодома; характерологической, создающей пространственные оппозиции «свое, безопасное – чужое, опасное»; сюжетообразующей, которая зависит от перемещения героев) спе-цифику пространственной организации фантастической повести В.Ф. Одоевского «Косморама» определяет в наибольшей степени фантастический элемент, выполняющий жанрообразующую функцию и отвечающий за развитие сюжета, формирование типа героя и само образование пространства. Помимо этого, рассматривая функции художественного пространства в данной повести, мы обнаружили характерные особенности литературы ужаса, что позволяет нам определить данную повесть как фантастическую повесть с предпосылками жанра ужаса.
Фантастическая литература, фантастическая повесть XIX века, пространственная организация, функции художественного пространства, литература ужасов
Короткий адрес: https://sciup.org/147251432
IDR: 147251432 | УДК: 821.161.1.09, 82.09 | DOI: 10.14529/ssh250309
Текст научной статьи Функции художественного пространства в русской фантастической прозе XIX века (на примере повести В. Ф. Одоевского «Косморама»)
Сегодня популярность фантастической литературы стабильно растет не только в России, но и во всем мире, и наличие литературных новинок жанра фэнтези (например, православное фэнтези Ю. Н. Вознесенской), литературы ужасов (роман Дэна Симмонса «Террор») на полках книжных магазинов, экранизации книг, создание фан-клубов тому подтверждение. Некоторые литературоведы связывают этот феномен с попыткой читателя уйти от обыденной действительности, погрузившись в мир мечтаний. Так, Е. В. Жаринов, исследуя жанры современной беллетристики, подчеркивает важность принципа эскапизма, т. е. «бегства от реальности», для фэнтези, хоррора и др. жанров фантастической литературы [1]. Погружение в воображаемый мир приключений, волшебства, необычных явлений и предметов позволяет читателю наполнить обыденность новыми смыслами, увидеть привычное с другой стороны, что расширяет представление о действительности.
Сам же термин фантастика в современном литературоведении не имеет единого определения. Т. А. Балашова и Л. И. Тимофеев, например, называют фантастикой специфический способ отражения действительности [2, 3]. В трудах И. В. Головачевой [4], Е. Н. Ковтун [5], Е. М. Неелова [6] и др. рассматриваются сюжетные, композиционные, идейно-тематические и другие особенности фантастической литературы. Огромный вклад в изучение фантастики внесли и зарубежные авторы [7–11].
Интерес к фантастике заставляет обратиться к начальному этапу ее формирования, который в современном литературоведении еще не исследован.
Цель данной работы заключается в рассмотрении функций художественного пространства в повести В. Ф. Одоевского «Косморама» (1839), написанной в период становления отечественной фантастической прозы. В ходе исследования решаются следующие задачи: 1) на основе анализа существующих классификаций функций пространства определить и описать ключевые функции в названной повести; 2) указать влияние этих функций на организацию художественного пространства в фантастической повести на этапе ее становления.
Обзор литературы
Художественное пространство, вслед за Ю. М. Лотманом [12], мы определяем как место действия литературных героев. В формировании художественного пространства могут участвовать, например, пейзаж, с помощью которого показана окружающая героя среда, предметно-вещный мир, представленный в роли какой-либо художественной детали, пространственные образы, например, дома, дороги, пути, леса, поля и др., а также перемещение героя, влияющее на сюжетно-фабульный уровень повествования. Подчеркнем, что в отдельном литературном произведении в организации художественного пространства автором может использоваться как один какой-то прием (к примеру, в пьесе Жана-Поля Сартра «За закрытыми дверями» действия происходят в одной комнате), так и несколько (например, в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» пространство организуют и перемещение героя, и пространственные образы дороги, помещичьей усадьбы, провинциального города, и предметно-вещный мир). Помимо этого, названные приемы могут взаимодополнять друг друга: например, перемещение героя напрямую оказывается связанным с образами дороги, пути и дома как конечной цели путешествия.
Взяв за основу бахтинскую идею о том, что именно пространство определяет жанровую разновидность произведения, развивает сюжет и формирует образ героя [13], в нашем исследовании мы выделили и описали следующие функции художественного пространства:
-
- жанрообразующую, определяющую жанр художественного произведения;
-
- сюжетообразующую, организующую основные события повествования благодаря сюжетным перемещениям героев;
-
- характерологическую, участвующую в создании образа героя, описывая его действия, чувства и переживания.
Характерологическую функцию для точности анализа, вслед за Е. М. Букаты, мы разделили на психологическую, которая позволяет раскрыть внутреннее состояние и переживания литературных героев, и собственно характерологическую, закрепляющую конкретный тип пространства за отдельно взятым героем [14].
Методы исследования
В процессе рассмотрения функций художественного пространства в повести В. Ф. Одоевского «Косморама» используются описательный, сравнительно-сопоставительный и аналитический методы анализа.
Результаты и дискуссия
В начале XIX века в русской литературе начинает формироваться жанр фантастической повести, к которому, как пишет В. М. Маркович, читатель испытывал особый интерес [15]. Любой литературный жанр обладает своей историей и устойчивыми признаками, что не обошло стороной и жанр фантастической повести. О. И. Виноградова, исследуя фантастические повести А. Ф. Вельтмана 20– 40-х годов XIX века, определяет следующие их жанровые особенности: 1) наличие двух взаимосвязанных миров; 2) небольшой объем произведения, посвященного истории героя, а не подробному психологическому анализу персонажа; 3) реализация конфликтной ситуации по принципу двоемирия и некоторые другие [16]. Мы дополняем классификацию особенностей фантастической повести таким важным, на наш взгляд, отличительным жанровым признаком, как фантастический элемент.
Обратимся к сюжету произведения В. Ф. Одоевского. Герой повести, Владимир, в детстве полу- чает необычный подарок от семейного доктора Бина – игрушку, показывающую будущее и потаенные мысли людей. Однажды Володя, пробравшись ночью тайком в комнату, достает игрушку и, заглянув в нее, видит сцену супружеской измены, виновницей которой становится его родная тетя: «…я увидел свою тетушку; возле нее стоял мужчина и горячо целовал ее руку, а тетушка обнимала дядюшку» [17, c. 186]. Позже эта сцена перейдет в реальный план повествования («Когда я пришел к дядюшке, у него сидели с одной стороны на креслах тетушка, а с другой мой белокурый офицер. Едва успел он сказать мне несколько ласковых слов, как я вскричал: / – Да я вас знаю, сударь!» [17, с. 188]), что определит положение героя между двумя мирами, видимым и невидимым, реальным и фантастическим.
По прошествии многих лет Владимир возвращается из Москвы в дядюшкин дом в качестве наследника и начинает вести светскую жизнь, наполненную шумом, пустыми разговорами и встречами. Однажды на балу Владимир знакомится с графиней Элизой Б., влюбляется в нее, и они начинают тайно от супруга встречаться. Супруг графини вскоре умирает, что дает возможность соединиться любящим сердцам. Однако покойник возвращается из потустороннего мира, чтобы забрать с собою в ад неверную жену. Накануне Нового года графиня с детьми и вернувшимся мертвецом погибают при пожаре, возникшем внезапно и уничтожившем всех его жильцов: «…ночью в доме у него сделался пожар; все сгорело: он сам, жена, дети, дом – как не бывали» [17, с. 229]. Узнав о смерти любимой, Владимир теряет рассудок и связь с реальностью, постепенно погружаясь в мир сновидений и мечтаний.
Сюжет повести постоянно держит читателя на грани между двумя мирами, реальным и фантастическим, однако не позволяет ему окончательно выбрать ту или иную сторону. На эту особенность указывает в том числе эпиграф из неоплатоников «Что снаружи, то и внутри». Фантастическое настолько становится неотъемлемой частью жизни героя повести, что он даже «не мог вполне оценить всю странность своего положения» [17, с. 184], отсюда определяется зыбкость границы между двумя мирами, которые представляют собой единое целое. Немаловажным для нас является то, что повествование ведется от первого лица, что внушает читателю доверие к герою повести, хотя доля сомнений остается: «…пораженный всем мною виденным, будучи решительно не в состоянии отличить действительность от простой игры воображения, я до сих пор не могу отдать себе отчета в моих ощущениях» [17, с. 184]. Таким образом, прием «двойной мотивировки», который также встречается в повестях А. С. Пушкина «Пиковая да- ма» и М. Ю. Лермонтова «Штосс», уравнивает в повести В. Ф. Одоевского два повествовательных плана, реальный и фантастический, второй из которых становится для автора предпочтительнее.
Жанрообразующая функция пространства напрямую связана с фантастическим элементом, который влияет на развитие сюжета, на тип героя и организацию художественного пространства. Таким фантастическим элементом в повести В. Ф. Одоевского является косморама, принадлежащая двум мирам, реальному и фантастическому, как игрушка, которая ничем не примечательна для остальных, кроме главного героя, и как предмет, имеющий необыкновенные свойства: «…в ящике было круглое стекло, сквозь которое виднелся свет; оглянувшись, чтобы посмотреть, нейдет ли тетушка, я приложил глаз к стеклу и увидел ряд прекрасных, богато убранных комнат, по которым ходили незнакомые мне люди...» [17, с. 186]. Здесь фантастический план оживает, становится реальным для героя повести.
Фантастический элемент также определяет тип главного героя, обладающего «сверхъестественными» способностями, которые позволяют ему видеть будущее и скрытые от посторонних глаз чужие мысли и желания: «…я старался понять, отчего в ее образах я видел то, что действительно случилось, и прежде, нежели случилось» [17, с. 190]. Фантастический план, таким образом, неотделим от главного героя повести, события которой предстают перед читателем через призму личных впечатлений, отраженных в дневниковых записях Владимира.
Психологическая функция художественного пространства позволяет увидеть внутренний мир героя, его чувства и переживания. Перед нами стоит задача посмотреть, как то или иное место действия влияет на поведение, мысли и чувства героев. К примеру, по приезде из Москвы Владимир знакомится с девушкой Соней, чистота и добродушие которой приводят героя в смущение, заставляя осознать свою испорченность светом. Оказавшись в комнате Сони, он «додумывает» себе образ этой девушки: «С этой минуты я смотрел на Соню другими глазами: ничто нас столько не знакомит с человеком, как вид той комнаты, в которой он проводит большую часть своей жизни, <…> переиначить старинную поговорку: “Скажи мне, где ты живешь, – я скажу, кто ты”» [17, с. 197]. Итак, место становится отражением внутреннего мира героя, что подчеркнуто самим рассказчиком, напомнившим читателю старую поговорку, заключающую в себе народную мудрость и наблюдательность. Главный герой признается, что лишь тогда он по-настоящему познакомился с девушкой, когда увидел собственными глазами место, где она проводит большую часть времени, где она прячется от посторонних глаз, тем самым комната становится неким автопортретом героя.
Психологическая функция пространства в повести также связана с описанием дома главного героя. Есть дом, в котором Владимир провел свое детство, - дом его покойного дяди: «…вошедши в дядюшкин дом, который сделался моим, я ощутил чувство неизъяснимое. Надобно пройти долгую, долгую жизнь, мятежную, полную страстей и мечтаний, горьких опытов и долгой думы, чтоб понять это ощущение, которое производит вид старого дома, где каждая комната, стул, зеркало напоминает нам происшествия детства» [17, с. 189]. Этот дом становится местом защиты от внешнего мира, прошлых тревог, оставшихся за его стенами. Так реализуется основная функция данного образа -получение крова и защиты. Одновременно он становится замкнутым пространством, отграниченным от мира внешнего и опасного.
Основная трагедия героя разворачивается в доме его возлюбленной, овдовевшей графини Элизы Б. Дом графини становится сосредоточением греха, рокового искушения, которому поддается Владимир, забыв о моральных и этических установках. Этот дом теряет основную функцию защиты, что позволило проникнуть за его стены силам ада - из потустороннего мира возвращается муж графини. Мотив ожившего мертвеца, роковая страсть, атмосфера страха и напряжения задают образ псевдодома, который также оказывает влияние на душевное состояние героев, ввергая их в отчаяние и сбивая с пути спасения: «Едкий горячий смрад задушал меня, заставлял закрывать глаза, – я слышал, как во сне, вопли людей, треск разваливающегося дома.» [17, с. 228]. Став сосредоточением греха, человеческих пороков и сил зла, дом графа и графини Элизы Б. сгорает дотла, не оставив после себя никаких признаков жизни, будто его никогда и не было: «ночью в доме сделался пожар; все сгорело: он сам, жена, дети, дом - как не бывали ...» [17, с. 229].
Отсюда вытекает следующая функция пространства - характерологическая , закрепляющая тип пространства за конкретным персонажем. Мы видим, что и внутреннее состояние героев, их чувства и мысли определяют тип пространства (например, псевдодом как чужое, опасное пространство), и само место способны изменить героя (дом как свое, освоенное, безопасное пространство). В рассматриваемой повести в роли чужого, опасного типа пространства выступает дом графини Элизы Б., а в качестве освоенного, безопасного типа пространства - дом дядюшки Владимира, где он вырос и куда он вернулся после долгих скитаний.
Помимо этого, тесно взаимосвязанные между собой реальный и фантастический планы повест- вования постепенно расширяют характерологическую функцию пространства. Персонажи, взаимодействующие с главным героем, показаны как с положительной, так и с отрицательной стороны. К ним относятся реальные люди, живущие в обыденной действительности (тетушка, Роль), и мистические, перенесенные в космораму (доктор Бин, Соня, Эльза, граф). Поэтому мы можем говорить о реализации мотива двойничества, в соответствии с которым также определяется пространство повести.
Последняя функция – сюжетообразующая , связана с действиями героев, включая их перемещения, поступки, переживания, что способствует установлению / стиранию пространственных границ. Впервые мы встречаем героя в доме дяди, где он получает космораму, открывшую ему потаенный мир будущего и внутренний мир других героев. Так, будучи представителем мира видимого, реального, главный герой вмещает в себя фантастический мир за пределами обыденной действительности. Граница между этими мирами становится шаткой и по ходу повествования постепенно стирается, поскольку Владимир окончательно теряет связь с реальностью: «…я, жилец здешнего мира, принадлежу к другому, я поневоле там действователь…» [17, с. 233]. Здесь же немаловажную роль играет мотив сна, который образует пространство сновидений. Оказавшись во власти своих желаний, герой теряет рассудок и начинает путать свои сны с событиями, происходящими в реальности. Таким образом, пространство, влияющее на состояние героя, способствует развитию сюжета произведения.
Рассмотрев функции пространства, мы обнаружили в данной повести предпосылки такого современного жанра фантастической литературы, как литература ужасов. К таким предпосылкам мы отнесли следующие приемы:
-
1) прием террора, связанный с нагнетанием страха (применен при неожиданном воскресении мертвого графа, вернувшегося из потустороннего мира);
-
2) прием хоррора, который вызывает эффект потрясения, используется автором при изображении горящего дома графа и графини: «…синеватое пламя побежало по всем членам мертвеца… посреди кровавого блеска обозначились его кости белыми чертами… Платье Элизы загорелось <…> “Дети! Дети!” – вскричала Элиза отчаянным голосом. “И они с нами!” – отвечал мертвец с громким хохотом…» [17, с. 228];
-
3) прием отвращения, используемый при описании оживших мертвецов: « … лицо пепельного цвета, по которому прорезывались тонкою нитью багровые губы; волосы белые, свернувшиеся клубком <…> она и дети побледнели – лицо, как у от-
- ца, сделалось пепельного цвета, губы протянулись багровой чертою, в судорожных муках они потянулись к отцу и обвивались вокруг членов его…» [17, с. 231].
Современные литературоведы определяют эти приемы как жанрообразующие для литературы ужасов [1, 18].
Выводы
Итак, в формировании художественного пространства в фантастической повести В. Ф. Одоевского «Косморама» участвуют общие функции пространства – жанрообразующая, психологическая, характерологическая и сюжетообразующая. Особенность пространственной организации данной повести определяется фантастическим элементом, который влияет на сюжет, тип героя и на само пространство, тем самым выполняя его жанрообразующую функцию. Психологическая функция в данной повести определяется образами дома, псевдодома, указывая на внутреннее состояние героев, их переживания и чувства. Характерологическая функция позволяет увидеть пространственную оппозицию «свое, безопасное – чужое, опасное», которая создается благодаря тем же образам дома и псевдодома, связанным с конкретными героями повести. Сюжетообразующая функция зависит от перемещения героев, что способствует установлению / стиранию границ между различными типами пространства (реального / фантастического; своего / чужого и др.).
Помимо этого, исследование функций пространственной организации повести позволило увидеть в данном поизведении предпосылки такого жанра современной фантастической литературы, как литература ужаса, что позволяет нам определить повесть В. Ф. Одоевского «Косморама» как фантастическую повесть с предпосылками жанра ужаса.