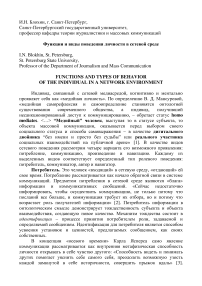Функции и виды поведения личности в сетевой среде
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14752388
IDR: 14752388
Текст статьи Функции и виды поведения личности в сетевой среде
I.N. Blokhin, St. Petersburg,
St. Petersburg State University,
Professor of the Department of Journalism and Mass Communication
FUNCTIONS AND TYPES OF BEHAVIOR
OF THE INDIVIDUAL IN A NETWORK ENVIRONMENT
Индивид, связанный с сетевой медиасредой, когнитивно и ментально проявляет себя как «медийная личность». По определению В. Д. Мансуровой, «медийная саморефлексия и самоопределение становятся онтологией существования современного общества, а индивид, получивший несанкционированный доступ к коммуницированию, – обретает статус homo mediates . <…> “Медийный” человек , выступая то в статусе субъекта, то объекта массовой коммуникации, оказывается перед выбором своего социального статуса и способа самовыражения – в качестве дигитального двойника “без имени и просто без судьбы” или реального участника социальных взаимодействий на публичной арене» [1]. В качестве видов сетевого поведения рассмотрим четыре варианта его возможного проявления: потребление, коммуникацию, произведение и навигацию. Каждому из выделенных видов соответствует определенный тип ролевого поведения: потребитель, коммуникатор, автор и навигатор.
Потребитель. Это человек «входящий» в сетевую среду, «отдающий» ей свое время. Потребление рассматривается как начало обратной связи в системе коммуникаций. Предметом потребления в сетевой среде являются «блага» информации и коммуникативных сообщений. «Сейчас недостаточно информировать, чтобы осуществить коммуникацию, не только потому что посланий все больше, и коммуникация требует их отбора, но и потому что возрастает роль получателей информации» [2]. Потребитель информации в онтологическом смысле демонстрирует тождественность субъекта и объекта взаимодействия, создающую новое качество. Механизм тождества состоит в идентификации – процессе принятия потребителем роли, задаваемой и определяемой сообщением. Идентификация для потребителя является способом усвоения установок и ценностей, предлагаемых сообщением, как своих собственных.
В концепции «осевого времени» Карла Ясперса само явление коммуникации рассматривается как внутренняя метафизическая способность личности открывать в себе чувство другого: «Способность видеть и понимать других помогает уяснить себе самого себя, преодолеть возможную узость каждой замкнутой в себе историчности, совершить прыжок вдаль» [3].
Общение (в противоположность договору, в котором участники руководствуются обязательствами) понимается как акт взаимопонимания, интимных контактов и осознанной духовной общности. В экзистенциальной традиции акцентируется внимание на противоречии (даже несовместимости) человека и социального мира, окружающего его. Идентификация как принятие роли представляет собой путь выхода из мира несовместимости и непонимания, путь взаимодействия адресата и мира массовой информации, где проблема общения решается не через разделение объекта и субъекта, а через их тождество.
Тождество как принцип общения читателя и прессы выражено в явлении антропоморфизма. Антропоморфизм, возникающий в процессе чтения-общения, описал В. П. Таловов: «Потребность в чтении удовлетворяют не только индивидуально, но, в каком-то роде, даже интимно. Припомним, как нам становится неприятно, когда в газету, которую читаем, допустим, в троллейбусе или метро, заглядывает кто-либо из посторонних. Такое впечатление, что за нами подсматривают, что нас подслушивают. С газетой общаются уединенно, без соглядатаев. В жизни такое общение ведется негромко, спокойным тоном, приглушенным голосом» [4].
Коммуникатор. Его функции состоят в инициировании коммуникаций и производстве сообщений. Активность коммуникаторов приводит к возникновению сетевых структур, аналогичных социальным структурам. Сети возникают на основе объективных потребностей в общении («Одноклассники») и для решения определенных (конкретных) задач («Химкинский лес»). Далее происходят трансформации сетей по различным сценариям и под воздействием разнонаправленных факторов.
В основе формирования сетей лежит обмен. Концепция социального обмена принадлежит американскому исследователю Джорджу Хомансу, который описал социальное поведение как обмен деятельностью, приводящий к вознаграждениям и издержкам. Хоманс сформулировал ряд постулатов, обосновывавших социальный обмен: успех, стимул, ценность, лишение-пресыщение, агрессия-одобрение и рациональность [5]. Описание человеческого поведения в теории Хоманса стало отправной точкой концепции обмена американского социолога Питера Блау, который стремился понять социальную структуру путем анализа процессов, управляющих отношениями между индивидами и группами. Связующими механизмами в сложных социальных структурах выступают нормы и ценности (или соглашение относительно ценностей). Соглашение относительно социальных ценностей служит основой для того, чтобы распространить порядок социального урегулирования за пределы непосредственных социальных контактов и продлить существование социальных структур вне пределов жизни отдельного человека [6]. Социальный обмен, создающий социальные структуры, оформляется в форме социальных сетей, которые с помощью компьютерных технологий и Интернета обретают «реальную» возможность для своего функционирования.
Концепция сетевого общества обосновывается в трудах Мануэля Кастельса. Ее исходным тезисом является определение «информационализма» как «воздействия знания на знание как основной источник производительности» [7]. Информационализм лежит в основе сетевого общества и «новой экономики», поскольку информация становится структурообразующей основой развития общества, приобретает новые качества и функции, преобразующие все основные сферы деятельности. В своих рассуждениях Кастельс опирается на концепцию французского социолога Алена Турена, привлекая понятия «идентичность сопротивления» и «идентичность, устремленная в будущее» и анализируя сетевые структуры, которые объединяются вокруг подобных идентичностей. «Сопротивление» и «устремленность в будущее» формируются как узлы сетевой активности. Норберт Больц отмечает роль сетей как в глобальном масштабе, так и в новом качестве социальной дифференциации: «Собственное значение сетей заключается… не в том, что они перерабатывают информацию, а в том, что они создают общности. В результате нация как инстанция, порождающая идентичности, все более теряет свою значимость – в пользу глобализирующих, но также и “трайбализирующих” сил» [8].
Автор. «Производитель информации», превращающий повседневность в событие и испытывающий потребность делать это. Автор стирает различия между явлением повседневности в реальном мире и медиасреде. Он создает вторую – подчиняющуюся «определенным условиям – реальность, с точки зрения которой обыкновенный образ жизни выглядит уже как реальная реальность» [9]. Автор может выступать и как «Создатель события», частным проявлением авторской роли в сетях является блогерство.
Автор обладает высокой степенью ролевой вариативности. Одна из его ролевых проблем состоит в принятии решения об участии (или неучастии) в наблюдаемой ситуации социального взаимодействия. В социологии также проблема исследовательского участия является методической и этической проблемой. Она выявлена в типологии социологического наблюдения (включенное – невключенное) и в разработке направления Action research, которое определяется как семейство научно-практических методологий, на равных основаниях использующих методы научного познания и активного вмешательства (изменения, преобразования, улучшения) в объект изучения [10]. Action research обозначает особый исследовательский подход, посредством которого не только создается новое знание о социальной системе (о мире повседневности), но и делается попытка одновременно изменить ее. Основные сферы возможного использования данной методологии – это социальное управление и социальная инженерия, в том числе и с использованием СМК в качестве инструмента, и с участием журналистов-авторов. Осознание и изменение социальных условий возможно лишь в том случае, если на всех этапах реализации проектов в работе будут участвовать практики, хорошо знающие социальную жизнь. В социальное управление все больше включаются журналисты, тем более что в силу особенностей своей профессии они, как никто другой, включены в жизнь общества на самых разных уровнях и работают в условиях взаимодействия с различными социальными группами.
Еще одна ролевая проблема автора состоит в достижении равновесия с окружающей социальной средой (средой повседневности), но без потери собственной ценностной идентичности. Для автора описание и интерпретация повседневности с позиции собственных ценностей – это только лишь первый шаг в производстве информации – нового знания или знания, обладающего новым качеством. Следующий шаг состоит в фиксации напряжения, вызванного расхождением в картинах мира и системах ценностей автора и героев его произведения. Затем следует расшифровка, раскодирование смыслов поведения, что служит достижению понимания мотивов и, в результате, ценностей «другого».
Навигатор. Он – «служащий (работник) сетевой среды». Его задача состоит в регулировании информационных потоков, управлении маршрутами. Он – оператор ракурсов, контекстов и смыслов. В его функции, в том числе, входит «слежка» за потребителями, коммуникаторами и авторами. В зависимости от целей навигации он помогает или вредит им. Характер деятельности навигатора позволяет выделить различные типы навигаций. К ним относятся: распространение информации через информационные и рекламные агентства, распространение СМИ, регулирование (стимулирование, упорядочивание или блокирование) информации и коммуникаций, уничтожение или повреждение информации (хакерство) и т. д.
Социальный смысл навигации в медиасреде состоит в организации сосуществования представлений о мире, смыслов и ценностей: «коммуникация состоит не в том, чтобы свободные и равноправные индивиды разделяли одинаковые точки зрения, а в том, чтобы организовать сосуществование часто противоречащих друг другу представлений о мире. <…> Коммуникация — это обучение сосуществованию в мире информации, где вопрос инаковости становится центральным . <…> Коммуникация… никогда не происходит сама собой, но является результатом хрупкого процесса переговоров. Именно поэтому информировать недостаточно для того, чтобы произошла коммуникация, и поэтому также, чаще всего, за исключением редких случаев в жизни и в истории, коммуникация в основном означает сосуществование» [11]. Организация коммуникации и, следовательно, обучение сосуществованию составляет главный принцип деятельности навигатора.
Распространение навигации как вида сетевого поведения повлияло на журналистскую иммиграцию из конклава авторов в секту навигаторов. А началось все с того, что часть авторов обнаружила свойство лавинообразного роста объемов информации, сопряженного с недостатком собственного времени на поиск и интерпретацию «эксклюзива» и, в то же время, с доступностью информационных ресурсов и коммуникаций. Одновременно в среде фотохудожников и дизайнеров появился тип, работающий не с собственным произведением, а уже с готовым банком визуальных данных. Не случайно производители информации в СМИ все чаще обращаются к аудитории с призывом «делать новости вместе с нами». Однако успешная навигация как деятельность по организации контекстов и смыслов, формированию «повесток дня» и «картин мира» требует, с одной стороны, необходимого уровня образования, с другой – осознания ответственности за последствия свой деятельности. Следовательно, возрастает и роль журналистов именно в качестве навигаторов коммуникаций и организаторов информации.
Выделенные типы ролевого поведения на уровне личности трансформируются, эволюционируют, способствуют объединению функций. Вывод о конвергентном характере отмеченных видов поведения подтверждает замечание Доминика Вольтона о типе получателя информации, который «становится новым главным действующим лицом, актором. Конечно, получатель информации существовал всегда, но сегодня он получает авторизацию и критикует, по мере своего освобождения, и пропорционально растущему объему информации, которую обрушивают на него. Он не всегда прав, далеко от этого, и в этом как раз и состоит проблема, поскольку информировать значит часто идти наперекор мнениям получателей информации» [12].
Функции, которые выполняют сетевые сообщества, с одной стороны, являются присущими медиасреде в целом, с другой – имеют свою выраженную специфику. Естественная сетевая регулятивная функция – социальный контроль . Формами социального контроля являются: формирование общественного мнения (причем во всех его проявлениях – распространение знания путем создания компетентных аудиторий, выработка системы социальных оценок и побуждение к действию) и обеспечение функционирования социальных институтов, включая журналистику. К методам социального контроля относятся изоляция, обособление и реабилитация.
Изоляция (депривация в значении отказа от освещения тех или иных событий, явлений, фактов, ситуаций, действующих лиц и т. д.) проявляется как игнорирование, вывод объектов из информационного пространства и, следовательно, из поля общественного мнения, социального обсуждения и дискуссии. Обособление воспроизводится в формах социальной и политической критики, в том числе медиакритики. Реабилитация осуществляется путем конструктивного обсуждения проблем через принятие роли оппонента и понимание его ценностей и мотивов поведения.
Кроме контроля к регулятивным функциям относятся управление и самоуправление. Однако внешний контроль представляется наиболее реальным проявлением функции регулирования, поскольку для управления необходимо встраивание или включение «медийного человека» в эту систему, для самоуправления необходимо их встраивание или включение в систему общественного саморегулирования. Среди теорий самоуправления и саморегулирования выделяется анархизм. Если анализировать его положения в контексте сетевой теории, то можно отметить, что основой анархической модели, так же как и сетевых структур, является обмен. Этот обмен принимает разные формы: от прямого товарного обмена – до обмена информацией и взаимопомощи, которая «изначально» присуща человеческой природе [13]. В политической доктрине анархизма большое место занимает критика представительной демократии: отчуждение власти и народа; рекламный характер выборных кампаний, в которых содержание рекламы (предвыборные обещания) никак не связано с товаром (партией или лидером); отсутствие ответственности «представителей народа» перед самим народом; невозможность независимой проверки самим избирателем, как засчитан его голос; обеспечение всеми возможными способами лояльности оппозиции, обеспечивающей самовоспроизводство правящего клана; апелляция к низменному и провоцирование эмоций и т. д.
Сеть создает принципиально новые возможности для осуществления прямой демократии, возможности каждому выразить свою политическую волю. Реализация данного варианта в настоящее время представляется иллюзорной, тем не менее технологический базис для его осуществления уже существует – возможность массовой коммуникации людей без затрат на их перемещение и организацию в режиме реального времени.
Блогер Ravashol описывает механизм принятия решений в условиях прямой демократии.
«Рассмотрим сеть множества связанных между собой коллективов. Внутри они могут управляться общими собраниями. Пусть один из коллективов предлагает какой-либо проект, реализация которого требует объединения усилий и очень сложной координации миллионов людей. Эта группа, обсудив проект на общем собрании, пересылает его другим. Другие группы могут заинтересоваться этой идеей, или остаться равнодушными, одобрить проект или забраковать, выступить с дополнениями и критикой. Далее они могут переслать проект со своими дополнениями тем группам, с которыми связаны уже они. Если проект не интересен обществу – обсуждение заглохнет на ранних этапах и затронет только несколько коллективов. Если же проект получит поддержку – то он чрезвычайно быстро охватит всю заинтересованную в нем аудиторию. Это будет лавинообразный процесс, который способен молниеносно охватить миллионы людей. <…> Вслед за распространением информации, произойдет распределение обязательств между тысячами коллективов и реализация идеи на практике. Так каждый коллектив превратится в социальный нейрон общественного коллективного разума. Все общество будет вовлечено в творческий процесс самоконструирования. Этот децентрализованный механизм принятия решений всем обществом позволит перенести прямую демократию в сколь угодно большие масштабы и сделать ее инструментом, с помощью которого массы смогут непосредственно, без всяких правительств и представителей, управлять своей жизнью» [14] .
В сетевой среде обмен существует и как экономическое явление - прямой товарный обмен и обмен, опосредованный рекламой. Главным объектом обмена в сетях является информация, в экономическом смысле она приобретает признаки ресурса. Ресурсный потенциал информации обоснован в концепции «неявного знания» Фридриха фон Хайека, согласно которой каждый индивидуум наделен уникальными знаниями (конкретных людей и обстоятельств), то есть использовать их в своей деятельности может только он один [15]. Вся совокупность процессов использования таких информационных преимуществ в экономической сфере координируется рынком, который обеспечивает (в том числе с помощью деловой прессы) субъектов деятельности новыми знаниями о состоянии спроса и имеющихся возможностях его удовлетворения (через ценовой механизм), а также о потенциальных сферах спроса и предложения. В «зоне наибольшей неопределенности» рыночной информации развертывается конкуренция («процедура открытия») – поиск изменений в предпочтениях потребителей и новых средств их удовлетворения. Суть предпринимательства состоит в поиске и исследовании новых возможностей, то есть предпринимательство является характеристикой не только рода деятельности, но и поведения. Деловая журналистика в подобной системе отношений выполняет функцию разрушения «неявного знания».
Значение выводов фон Хайека в отношении медиа состоит еще и в том, что конкуренция «как процедура открытия» разворачивается между источниками информации на поле доверия к ним со стороны потребителя. При этом вопрос о соответствии источника, которому доверяют, и источника, который содержит объективную информацию, остается открытым. По всей видимости, доверие как количественная характеристика начинает превалировать над качественной характеристикой объективности. Конкуренция разворачивается и между различными группами, выделенных на основе видов сетевого поведения. Она возникает, например между группами потребителей и авторов, по поводу защиты информации, интеллектуальной собственности и авторского права.
По критерию мотивации поведения выделяется символический обмен . Он лежит в основе формирований сообществ «хипстеров» (на основе демонстративного реального потребления), «друзей» (где виртуальное присвоение статуса обладает приоритетом над реальным) и т. п. Подобное поведение описывается в категориях концепции «символического капитала» Пьера Бурдье, согласно которой известность и признание становятся ценностью, находясь в отношении с некоторым полем. Через символическое потребление достигается реализация социального статуса, а через процессы обмена происходит воспроизводство реальных инфраструктур. В медиасреду постепенно проникают управление, торговля, услуги, развлечение, криминал и др. Происходит и обратный процесс – медиатизация действительности. Еще один тезис Бурдье, имеющий значение для анализа поведения в медиасреде – «борьба за пространство» [16]. Она проявляется в функции медиатизации пространства . Его примерами являются проекты медиатизации публичных пространств через видеотрансляции и видеослежение, объемное 3D картографирование и т. п.
«Технология C3 почти наверняка вскоре получит достойных конкурентов или, по крайней мере, будет повторена – та же Google постоянно работает над улучшением качества трехмерных моделей. А если еще немного помечтать, то можно представить себе трехмерные сканеры, которые могут использоваться самими пользователями для сбора информации для картографических сервисов, – это поможет получить модели тех мест, которые в планы владельцев сервисов пока не входят. В любом случае, компьютерная картография все больше срастается с окружающей реальностью, и уже не за горами те времена, когда весь мир будет за экраном нашего компьютера» (Андрей Заяц. С3 – предвестник 3D-революции в компьютерной картографии) [17].
К специфическим функциям сетевых сообществ относится медиатизация организаций . «Организации, превратившиеся в сеть, невозможно уже сколько-нибудь осмысленно изобразить в виде распорядительной иерархии или в виде четко отграниченных “корпораций”. Предприятие сегодня есть не что иное, как совокупность его внутренних и внешних отношений, которые по сути представляют собой информационный процесс» [18]. Любое публичное мероприятие или организационная акция (концерт, презентация, лекция, выставка, конференция, рабочее совещание и т. д.) имеет шанс превратиться в медиасобытие. Медиатизация становится сущностным свойством организации еще и в значении легализации ее документооборота, нормативного структурирования ее деятельности. Организации трансформируются в открытые, взаимодействующие и интерактивные медиасреды – городского управления и самоуправления, общественной активности и гражданского контроля, экономики и бизнеса, образования и науки, культуры и искусства, медицины и сферы услуг, досуга и быта и т. д.
Как специфическая функция проявляется также медиатизация частной жизни . В ее основе лежит постулат о свободе демонстрировать приватность. От индивида требуется, по крайней мере, согласие с таким положением вещей. Символический обмен в сетевой среде можно представить и как специфическое проявление социально-ролевого поведения. Его специфика заключается в том, что привычные социальные роли и идентичности совмещаются с игровыми (или даже замещаются ими). Соответственно, возрастает значение реляционных функций в медиасреде, легитимирующей игру в качестве типа социального поведения в сетевом пространстве.