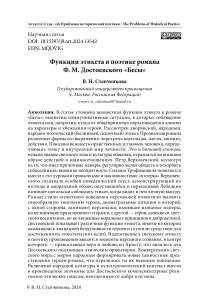Функции этикета в поэтике романа Ф. М. Достоевского «Бесы»
Автор: Степченкова В.Н.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.22, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье уточнена ценностная функция этикета в романе «Бесы», выявлены коммуникативные ситуации, в которых соблюдение этикета или, напротив, отход от общепринятых норм поведения влияют на характеры и убеждения героев. Рассмотрен дворянский, народный, народно-поэтический (былинный, сказочный) этикет. Проанализированы различные формы его выражения: через речь персонажа, жесты, мимику, действия. Показана важность нравственных установок человека, определяющих этику и внутренний мир личности. Это в большей степени, нежели знание светского тона и культуры общения, отражается во внешнем образе действий и взаимоотношениях. Петр Верховенский, несмотря на то, что имел приличные манеры, регулярно желал обидеть и оскорбить собеседников; внешняя неопрятность Степана Трофимовича появляется вместе с его дурными привычками и наклонностями; «пятерка» Верховенского создавала особый поведенческий текст, демонстрирующий их взгляды и аморальный облик; опустившийся и неряшливый Лебядкин начинает щегольски соблюдать этикет, когда видит в нем личную выгоду. Разные стили этикетного поведения персонажей позволили выявить своеобразную типологию героев, диаметральные позиции в которой, с одной стороны, занимают персонажи, имеющие изящные манеры, но не имеющие нравственного стержня, с другой - герои, далекие от светского воспитания, но не лишенные моральных принципов и добродетелей. Достоевский показывает различные функции этикета, многие из которых оказывались эманацией бездуховности героев и служили средством для достижения их эгоистических целей. В дополнение к светскому этикету в поэтику произведения вводятся элементы народного сознания, в центре которого - православная вера и любовь ко Христу, что являлось для Достоевского подлинным этическим ориентиром. Конвергенция светского мира с миром народным формировала новые ценностные представления героев романа, что отразилось на их внешнем поведении. Включение народной культуры в культурологический контекст внесло в произведение значимые для Достоевского комплементарные религиозно-этические смыслы, неотделимые от добра и истины.
Достоевский, роман бесы, поэтика, этика, этикет, культура, образ, характер, диалог, общество, аксиология, ценностная парадигма, фольклор, былина
Короткий адрес: https://sciup.org/147243486
IDR: 147243486 | DOI: 10.15393/j9.art.2024.13542
Текст научной статьи Функции этикета в поэтике романа Ф. М. Достоевского «Бесы»
Д остоевский «объединяет людей разных политических убеждений, культур, цивилизаций, конфессий» [Захаров, 2021: 7] — подобная всеохватность объясняется онтологической глубиной взглядов писателя. Достоевский, с одной стороны, «прямо — лично и художественно — ориентируется на высшие творения европейского духа» [Тюнькин: 24], с другой — «ориентир <…> для творчества Достоевского не посторонний, во многом конструктивный» — это русская религиозная культура [Власкин: 3]. По словам В. В. Владимирцева, исконно русская культура «входила в сознание и подсознание писателя как единое с его натурой, этнически кровное опорное духовное достояние» [Владимирцев: 10].
В творчестве Достоевского народная культура проявлялась в образах, в фольклорных мотивах, на языковом уровне и даже в жанровом отношении. Так, например, О. В. Захарова отмечала, что в «концепции нового литературного жанра» писателя «ключевым понятием становится былина », которая была способна «выразить смысл русской истории, русский взгляд, русскую идею» [Захарова: 275–276]. Ввиду синтетического и поликультур-ного характера воззрений Достоевского, изучение его этики и эстетики не теряет своей актуальности, особенно «в контексте продолжающегося и пока не увенчавшегося очевидным успехом поиска "скреп" современного общества» [Киселева, Сахарчук: 164].
При изучении этической картины мира Достоевского недостаточное внимание уделено роли этикета в выявлении ценностных установок героев произведений писателя. Особое место в поэтике романа «Бесы» занимали формы выражения народного этикета. В отличие от дворянской культуры, основу которой составляли идеи вежливости и учтивости, народный этикет, отражая бытовую сторону жизни, заключал ее онтологическую составляющую, основанную на христианском сознании, которое регламентировало внутрисемейные патриархальные отношения, отношение к барину и царю, отношение к святыням — что неоднократно отражалось в былинах, сказках, песнях. Несмотря на то, что народный характер «выражает свою духовность во всей ее сложности» [Власкин: 96], так как включает вместе с религиозностью суеверные инстинкты, мистические стихии, «темноту», Достоевский делает акцент на его глубокой вере и нравственности.
Внутренние ценностные установки определяют сущность, мышление, убеждения человека, формируют этику, которая отражается в поведении, поступках, взаимоотношениях, что видно на примере образов Степана Трофимовича, Петра Степановича, капитана Лебядкина, Кармазинова, Шатова и других.
Степан Трофимович Верховенский являлся обладателем замечательных манер, но со временем в нем произошли изменения: он обзавелся дурными привычками, его морально-нравственное состояние начало постепенно отражаться и на внешнем облике. Бывший «Кукольник» стал обрюзгшим, плаксивым, а его жилище — неопрятным. Варвара Петровна ругается:
«Какъ вы всегда накурите; Господи, что за воздухъ! Вы и чай не допили, а на дворѣ двѣнадцатый часъ! Ваше блаженство — безпорядокъ! Ваше наслажденiе — соръ!»1.
При этом этикет XIX в. предписывал обязательную чистоплотность и аккуратность во всем, в том числе и в доме, потому что «ничто такъ не выясняетъ характеръ людей, какъ ихъ жилище»2.
Если ранее Верховенский-страший представлял собой образ патриарха с длинными волосами, щеголявшего солидностью своих лет, то впоследствии Варвара Петровна заметила из менения во вн ешнем виде своего друга:
«Я бы желала чтобы вы получше одѣвались, Степанъ Трофимо-вичъ; вы съ каждымъ днемъ становитесь такъ неряшливы…» (61).
Изменилось и окружение старика, Ставрогина негодовала:
«…вы окружаете себя какою-то сволочью <…>. Можно ли, позволительно ли дружиться съ такою сволочью, какъ вашъ неразлучный Липутинъ?» (62).
Хроникер отметил, что неряшливость появилась у Верховенского вместе со скверными наклонностями, которых завелось у его друга немало:
«Онъ видимо и быстро опустился, и это правда что онъ сталъ не-ряшливъ. Пилъ больше, сталъ слезливѣе и слабѣе нервами…» (63).
Вместе с неряшливостью у Степана Трофимовича появляется любовь к красному цвету: для домашней одежды он выбирает красную фуфайку, платок у него также красный («онъ за-крылъ глаза своимъ краснымъ фуляромъ и рыдалъ» — 404), но особый акцент делается на красном галстуке.
Галстук в XIX в. отличался от современного представления о нем: «До конца 60-х гг. XIX в. в основе кроя галстука лежала конструкция, близкая шейному платку» [Кирсанова, 1989: 66]. В выборе цвета галстука также были особые предписания: мужчины носили галстуки разных цветов, но рекомендуемым цветом являлся белый (см., напр.: [Кирсанова, 1995: 75]) — как раз такой Варвара Петровна «сочинила» своему другу: «…галстукъ бѣлый, батистовый, съ большимъ узломъ и висячими концами» (21). Но в один из дней Ставрогина удивленно спрашивает Верховенского: «…вы носите красные галстуки, давно ли?» (58). На что Степан Трофимович смущенно пытается оправдаться: «— Это я… я только сегодня…» (58).
Красный цвет имеет обширную символику, его семантическое поле соотносится с такими понятиями как уверенность, сила, вызов, победа, энергия, а ярко-красный, или пурпуровый, цвет ассоциировался с «величiемъ, могуществомъ, по-честью»3. Из этого следует, что на фоне общей замеченной неряшливости и обрюзглости красный цвет давал Степану Трофимовичу энергию и уверенность. Старик, бывало, украдкой от Хроникера заменял «свой всегдашнiй бѣлый галстукъ на красный» (88), очевидно также пытаясь ярким элементом костюма отвлечь внимание от своих дурных внешних изменений, на что Варвара Петровна говорила ему:
«Вы не то что постарѣли, вы одряхлѣли… вы поразили меня когда я васъ увидѣла давеча, несмотря на вашъ красный гал-стукъ…» (58).
Вместе со скверными привычками и красным галстуком у старика появляется надушенный платок, который Степан Трофимович также скрывал от Варвары Петровны, вероятно полагая, что Варвара Петровна не одобрит и эту вещь его гардероба:
«…только завидѣлъ Варвару Петровну въ окно, поскорѣй взялъ другой платокъ, а надушенный спряталъ подъ подушку» (78).
Духи — особый предмет туалета, пользование которым в XIX в. требовало осторожности, потому что могло дать «поводъ подозрѣ-вать <…> въ нечистоплотности и желанiи замаскировать непрiят-ный запахъ»4.
Справедлива мысль Н. В. Новиковой о том, что «элементы гардероба, введенные Достоевским в текст романа, способствуют более детальному раскрытию ситуации» [Новикова: 188]. Так, существенными для понимания роли этики в детерминации этикетного поведения являются внутренние ценностные установки: с понижением нравственности Степана Трофимовича некоторые этикетные предписания начинали отходить для него на второй план. Изменения внешности, происходящие от внутреннего неблагообразия, он пытается компенсировать такими нехитрыми, чисто декоративными деталями.
Впрочем, несмотря на перемены, Степан Трофимович оставался человеком утонченного вкуса, воспитания и поведения, остро реагировал на этикетное поведение окружающих и умел тонко считывать его подтекст. Например, придавал особое значение письмам, очевидно как и сам Достоевский, «любил письмо как процесс» и от «писательства» получал «эстетическое удовольствие» [Захаров, 2023: 44]. Для Степана Трофимовича было оскорблением получить от Варвары Петровны письмо на клочке бумаги, написанное карандашом, — он воспринимал это как знак пренебрежения, ведь использование пера при написании не только являлось более трудоемким процессом, но и составляло целую письменную культуру, и текст, написанный пером, ценился на порядок выше, нежели написанный карандашом (см., напр.: [Константинова, Николаева, Фарафонова: 49]).
Внутренняя утонченность и чуткое понимание этикета были причиной того, что Верховенский близко к сердцу принимал всю неделикатность обращения с ним сына. Сын же, Петр Степанович, в свою очередь, имел отчетливые представления о культуре поведения. Хроникер говорил о том, что «всѣ у насъ находили потомъ его манеры весьма приличными, а разговоръ всегда идущимъ къ дѣлу» (174), но по отношению к отцу Вер-ховенский-младший демонстрировал полное пренебрежение правилами приличий.
Надо отметить, что «в каждой культуре существует свой концепт вежливости» [Ролдугина: 162], и в XIX в. отношение к родителям сохраняло «домостроевские» традиции: «…не разрешалось стоять перед родителями в шляпе, садиться раньше них, перебивать в разговоре и прекословить» [Курочкина: 5]. Так, попрание норм приличий по отношению к отцу являлось не столько этикетным, сколько этическим аспектом, вскрывающим низкий уровень морали и нравственности Петра Верховенского. Степан Трофимович чувствовал свою вину перед сыном и находился в покаянном состоянии:
«…такъ мало нахожу себя въ правѣ называться отцомъ… <…> … жду теперь моего бѣднаго мальчика, предъ которымъ… о, предъ которымъ я такъ виноватъ!» (92).
Как и Версилов в романе «Подросток», Верховенский был «способен просить прощения у сына, узревая в этом залог сохранения и развития добрых отношений» [Киселева, Сахар-чук: 159], но Петр Степанович не стремился к примирению. Началось с того, что молодой человек совершенно неделикатным образом открыл на встрече у Варвары Петровны конфиденциальное содержание письма отца, которое его скомпрометировало и расстроило двадцатилетнюю дружбу с генеральшей. Сын обижал Степана Трофимовича обращением к нему на «ты», на что старик говорил: «…хорошо, когда оба согласны, ну, а если ругаются?» (208). Петр Степанович высказывал непочтение не только вербально, но и через жесты, язык тела — в один из своих приходов к отцу Хроникер был свидетелем следующей картины:
«Петръ Степановичъ съ самымъ фамильярнымъ видомъ усѣлся подлѣ него (Степана Трофимовича. — В. С .), безцеремонно под-жавъ подъ себя ноги, и занялъ на кушеткѣ гораздо болѣе мѣста, чѣмъ сколько требовало уваженiе къ отцу» (289).
Подобное поведение сына и намеренное нарушение элементарных этикетных правил было вызвано его желанием оскорбить, отомстить, дискредитировать отца, тем самым герой выявил в себе такие неблагообразные черты, как циничность, дерзость, мстительность. Понимая важность для воспитанного общества внешнего соблюдения норм приличий, Петр Степанович своим бестактным поведением намеренно оскорблял и губернатора фон Лембке:
«…молодой Верховенскiй съ перваго шагу обнаружилъ рѣши-тельную непочтительность къ Андрею Антоновичу и взялъ надъ нимъ какiя-то странныя права…» (297).
Посещения Петром Верховенским дома губернатора зачастую были бестактны: вел молодой человек себя нескромно, навязывал свое общество, перебивал собеседника, давал непрошеные советы, приходил в неприемные часы. Если в основе этикетного поведения лежит правило «стараться не ставить людей в неудобное положение» [Курочкина: 106], то молодой Верховенский, напротив, упивался возможностью задеть или обидеть своего собеседника: так, он нарочно сделал вид, что забыл имя Хроникера; шагал посреди тротуара, заставляя Липутина сбегать в грязь; пренебрегал своей «пятеркой» — в этих ситуациях грубость являлась средством для уязвления самолюбия и демонстрации халатного отношения к окружающим. Это вело к возможности манипулирования людьми, ведь «на полученном эмоциональном фоне легче оказывать влияние, так как происходит психологическая дестабилизация, вследствие чего формируется особая податливость реципиента к дальнейшему внушению и руководству» [Степченкова: 102]. Неделикатность поведения Петра Верховенского усиливалась за счет его жестов и мимики. Например, на собрании «у нашихъ» при обсуждении важных вопросов Верховенский вел себя крайне фамильярно, задевая чувства присутствующих и всячески показывая безразличие ко всему происходящему: «Верховенскiй замѣчательно небрежно развалился на стулѣ въ верхнемъ углу стола, почти ни съ кѣмъ не поздоровавшись» (372), демонстративно потягивал ся на стуле «зѣвая», попросил ножницы, «безмятежно разсматривая свои длинные и нечис тые ногти» (379), при этом «Арина Прохоровна поняла что это реальный прi-емъ…» (380) (выделено нами. — В. С.). Характеристика «бисерной» речи Петра Степановича не только является психологическим атрибутом персонажа, но и приобретает религиозноэтический смысл: «"Бисерная" дикция требует особого органа речи героя — змееподобного языка» [Захаров, 2023: 47]. Несмотря на название главы «Премудрый змiй» (155) (отсылающее к наставлению Господа: «…будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» — Мф. 10:16), весь облик Верховенского наводит мысли читателя на укорененный в народе образ змея-искусителя (см., напр.: [Дудкин: 65]). С. Б. Пухачев отметил, что «Верховенский никогда не краснеет и не бледнеет, но трижды зеленеет, не оставляет сомнений в том, кого имел в виду Достоевский, рисуя этот портрет» [Пухачев: 272]. В стремлении Петра Верховенского играть роли и сочинять физиономии угадывается фольклорный мотив ряженья, который часто встречается в былинах, сказках, песнях. По замечанию С. А. Орловой, «обращение Достоевского к различным типам ряженья с целью выявления сущности героев-"бесов" позволяет сделать вывод о том, насколько глубоко писатель понимал народную культуру» [Орлова: 45].
Капитан Лебядкин жил, казалось бы, вне культурного пространства, как наедине с собой («…капитанъ, ложась на ночь, валился каждый разъ на полъ, нерѣдко въ чемъ былъ. Вездѣ было накрошено, насорено, намочено…» — 138), так и в обществе. Например, пренеделикатно переехав к Виргинским и «обрадовавшись чужому хлѣбу», он под конец начал «третировать хозяина свысока» (34). Внешняя и внутренняя культура Игнату Тимофеевичу была не свойственна, но в то же время он со знанием дела обращался к этикету, когда это становилось для него выгодно ввиду каких-либо целей.
Лебядкин был «довольно непрiятнаго вида» (166) и принадлежал к той категории людей, «которымъ чистое бѣлье даже не прилично-съ» (166). Внешний вид капитана точно соотносился с его внутренним состоянием. Но, влюбившись в Лизавету Тушину, Лебядкин стал понимать, что «капитанская любовь требуетъ свѣтскихъ приличiй» (146), и купил себе фрак любви, которым на балу у Юлии Михайловны произвел сильное впечатление на Хроникера, даже имел при себе «перчатки черныя, изъ ко-торыхъ правую, еще не надѣванную, онъ держалъ въ рукѣ» (166). В этой детали Лебядкин демонстрирует совершенное знание этикета, так как правила приличия гласили, что «неизящно одѣ-вать утромъ свѣтлыя лайковыя перчатки»5, а также при визитах мужчинам следовало правую руку освобождать от перчатки.
Однако неожиданно преобразившийся внешний вид Лебядкина был продиктован не внутренней культурой, а возникшим желанием понравиться Лизе, вскоре после чего капитан вернулся в свое прежнее неряшливое состояние. Если рассматривать новый образ Игната Тимофеевича с позиций не дворянского этикета, а народного сознания, то здесь прослеживается элемент ряженья, которое относилось нередко к шутовству. В. А. Михнюкевич писал, что шутовство, которое было свойственно капитану, — это «лжеюродство, маска, ряжение» [Михнюкевич: 23]. Лжеюродство Лебядкина противопоставлялось юродству его сестры Марьи Тимофеевны.
В этикетном отношении удивителен был прием капитана, устроенный Ставрогину: Лебядкин накрыл стол, и «все было улажено чисто, съ знанiемъ дѣла и почти щегольски» (252). Здесь Игнат Тимофеевич демонстрирует изрядное знание культуры, но опять-таки для того, чтобы произвести впечатление. Он ценит отношения со Ставрогиным, но не за родственную связь, а за те деньги, которые тот ему постоянно посылает. В данном случае этикет играет прагматическую роль: Лебядкин примитивным образом применяет этикетные знания для достижения своих нехитрых целей. Но порочный человек весьма редко отличается истинно изящными манерами, и окружающие, глядя на капитана, это понимали.
Кармазинов видел в этикете лишь внешнюю сторону соблюдения норм и правил приличия. И. Н. Курочкина так описывает этот тип людей: «Человек полагает достаточным для создания о себе хорошего впечатления время от времени соблюдать некую поведенческую технику, которая показывает, что он — человек культурный, хорошо воспитанный. Однако тот, кто стоит на такой позиции, проигрывает, поскольку рано или поздно люди распознают его нечестную и малокультурную сущность» [Курочкина: 118]. Кармазинов, несмотря на любезность и соблюдение этикета, во многом являл свою эгоцентричность, цинизм и неблагообразность, так как знание этикета само по себе не делает человека нравственным.
При описании Кармазинова Хроникер обращает внимание на его европейское платье и тщательный выбор всех деталей одежды:
«…всѣ мелкiя вещицы его костюма: запоночки, воротнички, пуговки, черепаховый лорнетъ на черной тоненькой ленточкѣ, перстенекъ, непремѣнно были такiе же, какъ и у людей безукоризненно хорошаго тона» (86).
Его дворянское «присюсюкивание» говорило о благородном происхождении, он умел держаться светских манер. Но истинно культурный человек стремится поставить в центр своих интересов другого человека, что трудно сказать о Кармазинове:
«Разсказывали что онъ васъ встрѣтитъ, обласкаетъ, прельститъ, обворожитъ своимъ простодушiемъ <…>. Но при первомъ князѣ, при первой графинѣ, при первомъ человѣкѣ, котораго онъ боится, онъ почтетъ священнѣйшимъ долгомъ забыть васъ съ самымъ оскорбительнымъ пренебреженiемъ…» (85).
Добродушие Кармазинова показное и крайне непостоянное, нацеленное на личную выгоду. Так, неискренняя любезность показана при приеме Петра Степановича:
«Не желаете ли завтракать? спросилъ хозяинъ <…> но съ та-кимъ разумѣется видомъ которымъ ясно подсказывался вѣжливый отрицательный отвѣтъ. Петръ Степановичъ тотчасъ же пожелалъ завтракать. Тѣнь обидчиваго изумленiя омрачила лицо хозяина <…> несмотря на все свое воспитанiе брезгливо возвысилъ го-лосъ, приказывая подать другой завтракъ» (348).
Кармазинов намеренно поставил Хроникера в неловкое положение, когда выронил крошечный сак, чтобы посмотреть, бросится ли тот его поднимать. Беспечна и демонстрирующая его беспринципность реакция на распущенное поведение разгулявшейся в городе молодежи:
«— Это въ здѣшнихъ нравахъ, сказалъ онъ, — по крайней мѣрѣ характерно и… смѣло…» (305).
Характеризуют Кармазинова и его высказывания о России:
«Святая Русь страна деревянная, нищая и… опасная, страна тще-славныхъ нищихъ…» (351).
Автор книги «Жизнь въ свете…» говорит о том, что лучше не иметь изящных манер и быть человеком благонравным, нежели быть внешне благовоспитанным, но безнравственным6.
Кармазинову противопоставляется Шатов: персонаж, который не соблюдал этикет потому, что не знал его или не видел надобности в его исполнении. Так, Иван может не здороваться, не открывать дверь гостям, грубо отвечать. Но, несмотря на неблагообразные манеры, у молодого человека имелось чувство чести — например, для Шатова было важно при первой возможности отдать долг Ставрогину:
«…подождите, остановилъ Шатовъ, поспѣшно выдвинулъ изъ стола ящикъ и вынулъ изъ-подъ бумагъ радужный кредитный билетъ; — вотъ, возьмите, сто рублей, которые вы мнѣ выслали <…>. Я долго бы не отдалъ еслибы не ваша матушка: эти сто рублей подарила она мнѣ…» (232).
Примечательно, что при всей бедности Шатов почти год хранил деньги, врученные Варварой Петровной, чтобы непременно их вернуть Ставрогину. С достойной стороны молодого человека характеризуют заступничество за Марью Тимофеевну и трепетное попечение о вернувшейся беременной жене. Незнание этикета отнюдь не лишало героя нравственного отношения к действительности и к людям, чувства чести и собственного достоинства.
Важную роль в романе играет «пятерка» Верховенского, члены которой являлись представителями особого типа русского человека, из которого потом вышел тип революционера. Суть революционного поведения в быту и в повседневной жизни заключалась в том, что человек должен был отличаться от окружающей его среды: последователи Верховенского, не имеющие возможности прямо заявлять о своих взглядах, демонстрировали их за счет поведения, противопоставляя себя обществу и бросая ему вызов.
Их образ действий был продиктован внутренними установками и одновременно рассчитан на зрителя, так как поведенческий стиль человека чаще всего — это своеобразный диалог с окружающими, где каждый из участников общения играет ту или иную роль. После вступления в тайное общество поведение революционной молодежи должно было отличаться от обычной жизни светского человека. Молодые люди из кружка Верховенского, с одной стороны, сохраняли конспиративность, с другой — нарочито нарушали этикет и правила приличия, превращая стиль поведения в некий опознавательный знак, и создавали антиценностную парадигму, состоящую из зубоскальства, цинизма, распущенности, развязности, бесцеремонности.
Поведение кавалькады молодежи было рассчитано на то, чтобы вызвать в конечном счете смуту и беспорядок. По словам Хроникера, они насмехались и третировали город, как какой-то «городъ Глуповъ» (304). Молодые люди нарушали все мыслимые границы и нормы. Поведенческий текст характеризовал их нравственный облик, который складывался из разных будничных эпизодов: увоз от мужа бедной поручицы, скандал вокруг молодоженов, подкладывание непотребных картинок книгоноше, осквернение иконы, праздное посещение юродивого Семена Яковлевича, циничное желание поглядеть на самоубийцу, беспорядки на балу Юлии Михайловны. Их повседневная жизнь в целом ряде случаев позволяла молодым людям выделяться в обществе: социум XIX в. имел сложную и строго регламентированную систему поведения, а открытое нарушение этикета, общественных и светских норм было одним из способов демонстрации своих взглядов.
Из всех героев романа Ставрогин являет себя как крайне сложная и противоречивая личность, расхождения отмечаются и в этикетном поведении. Хроникер был изумлен его обликом:
«Я ждалъ встрѣтить какого-нибудь грязнаго оборванца, испитаго отъ разврата и отдающаго водкой. Напротивъ, это былъ самый изящный джентльменъ изъ всѣхъ, которыхъ мнѣ когда-либо приходилось видѣть, чрезвычайно хорошо одѣтый, державшiй себя такъ какъ могъ держать себя только господинъ привыкшiй къ самому утонченному благообразiю» (44).
Ставрогин совершает бесчинства, но после этого просит прощения; всегда почтительный к матери, он может встать и уйти, не ответив ей; удивляет всех соблюдением этикета, но при этом иронично отвечает Лебядкину: «…очень я боюсь вашего свѣта» (256), давая понять, что общественное мнение не играет для него никакой роли. Ставрогин вызывает разговоры в обществе, вытерпев пощечину Шатова и не ответив ему; отказывается стрелять в Гаганова на дуэли; объявляет о браке с сумасшедшей Лебядкиной; увозит Лизу Тушину к себе. Однако при этом в свете он оказывается в моде, о нем с благоговением говорят, и за смерть Лебядкиных приходится расплачиваться не Ставрогину, а Лизавете Николаевне. Противоречия в этикетном поведении Ставрогина еще раз подчеркивают загадочность и сложность этого образа.
Этикет в романе Достоевского «Бесы» выполняет особую нагрузку. Одни персонажи, не думающие о соблюдении этикета и имеющие отчетливое представление об этике и нравственности, оказываются по своему складу близки к народному характеру; другие герои, не обладая внутренней культурой, намеренно начинали ее демонстрировать ввиду своих личных эгоистических интересов, используя этикет в прагматичных целях; третьи — с помощью этикета находили возможность утонченно друг с другом враждовать, сохраняя при этом внешнюю благочинность.
На фоне правил, принятых в обществе, герои обнаруживают свою истинную сущность, обозначаются их взгляды, убеждения, черты характера. Особенно рельефно выделяется на фоне социума со сложной системой отношений отход персонажей от этикетных норм, что являлось следствием различных мотивов и желаний и выявляло не только их воспитание, но и этические воззрения. Достоевский активно использует этикетные ситуации для раскрытия внутреннего мира героев, разнообразие целей ведет персонажей к выбору того или иного поведенческого стиля, свидетельствующего об их ценностных ориентирах.
Список литературы Функции этикета в поэтике романа Ф. М. Достоевского «Бесы»
- Владимирцев В. В. Достоевский народный. Ф. М. Достоевский и русская этнологическая культура: Статьи. Очерки. Этюды. Комплекс историко-литературных исследований. Иркутск: ИГУ, 2007. 460 с.
- Власкин А. П. Творчество Ф. М. Достоевского и народная религиозная культура. Челябинск: Челяб. гос. ун-т; Магнитогорск: Изд-во МГПИ, 1994. 196 с.
- Дудкин В. В. Нечто о скандале у Достоевского (Роман «Бесы») // Достоевский и современность: мат-лы XVII Междунар. Старорусских чтений (Великий Новгород, 2002 г.). Великий Новгород: Научно-культурный центр Дома-музея Ф. М. Достоевского, 2003. С. 57–67.
- Захаров В. Н. Актуальность Достоевского // Неизвестный Достоевский. 2021. Т. 8. № 1. С. 5–20 [Электронный ресурс]. URL: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1617397021.pdf (20.11.2023). DOI: 10.15393/j10.art.2021.5321
- Захаров В. Н. Сколько почерков у Достоевского: задачи типологии // Неизвестный Достоевский. 2023. Т. 10. № 3. С. 42–62 [Электронный ресурс]. URL: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1697450664.pdf (20.11.2023). DOI: 10.15393/j10.art.2023.6861
- Захарова О. В. Концепция былины у Ф. М. Достоевского // Проблемы исторической поэтики. 2015. Вып. 13. С. 271–286 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1449828970.pdf (20.11.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2015.3444
- Киселева И. А., Сахарчук Е. С. Идея родственной любви в романе Ф. М. Достоевского «Подросток» // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19. № 3. С. 150–169 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1633680870.pdf (20.11.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2021.9982
- Кирсанова Р. М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: костюм — вещь и образ в русской литературе XIX в. М.: Книга, 1989. 288 с.
- Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре 18 — первой половины 20 вв.: опыт энциклопедии / под ред. Т. Г. Морозовой. М.: Большая Российская энциклопедия, 1995. 383 с.
- Константинова Н. В., Николаева Е. Г., Фарафонова О. А. Культурологические аспекты изучения русской литературы XIX века. Новосибирск: Издательство НГПУ, 2019. 226 с.
- Курочкина И. Н. Этикет как социальное явление и его значение в педагогической деятельности. М.: Флинта, 2018. 147 с.
- Михнюкевич В. А. Русский фольклор в художественной системе Ф. М. Достоевского. Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 1994. 320 с.
- Новикова М. В. Специфика репрезентации костюмного кода в романе Ф. М. Достоевского «Бесы»: Варвара Петровна Ставрогина и Степан Трофимович Верховенский // Роман Ф. М. Достоевского «Бесы» в контексте духовной традиции и «большого времени» русской культуры: мат-лы Всерос. науч. конф. (Липецк, 2022 г.). Липецк: Липецкий гос. пед. ун-т им. П. П. Семенова-Тян-Шанского, 2022. С. 184–189.
- Орлова С. А. Мифо-фольклорный контекст романа Ф. М. Достоевского «Бесы»: дис. … канд. филол. наук. Курган, 2010. 205 с.
- Пухачев С. Б. Кинеситические наблюдения над романом Ф. М. Достоевского «Бесы» // Достоевский и современность: мат-лы XX Междунар. Старорусских чтений (Великий Новгород, 2005 г.). Великий Новгород: Научно-культурный центр Дома-музея Ф. М. Достоевского, 2006. С. 269–287.
- Ролдугина О. С. Художественные функции средств этикета в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» // Творчество Ф. М. Достоевского в непрошедшем времени России: мат-лы Всерос. науч. конф. (Липецк, 2021 г.). Липецк: Липецкий гос. пед. ун-т им. П. П. Семенова-Тян-Шанского, 2021. С. 161–164.
- Степченкова В. Н. Манипулятивные стратегии Петра Верховенского в романе Ф. М. Достоевского «Бесы» // Проблемы исторической поэтики. 2023. Т. 21. № 1. С. 91–113 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1676985522.pdf (20.11.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2023.12022
- Тюнькин К. Достоевский, кто он? // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников: в 2 т. М.: Худож. лит., 1990. Т. 1. С. 5–26.