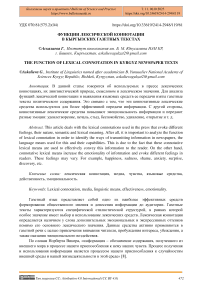Функции лексической коннотации в кыргызских газетных текстах
Автор: Аскалиева Г.
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Социальные и гуманитарные науки
Статья в выпуске: 10 т.11, 2025 года.
Бесплатный доступ
В данной статье говорится об используемых в прессе лексических коннотациях, их лингвистической природе, смысловом и лексическом значении. Для анализа функций лексической коннотации и выявления языковых средств ее передачи взяты газетные тексты политического содержания. Это связано с тем, что эти коннотативные лексические средства используются для более эффективной передачи информации. С другой стороны, коннотативные лексические средства повышают эмоциональность информации и передают разные эмоции: удовлетворение, печаль, стыд, беспокойство, удивление, открытие и т. д.
Лексическая коннотация, медиа, чувства, языковые средства, действенность, эмоциональность
Короткий адрес: https://sciup.org/14133978
IDR: 14133978 | УДК: 070:81(575.2)(04) | DOI: 10.33619/2414-2948/119/61
Текст научной статьи Функции лексической коннотации в кыргызских газетных текстах
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
УДК 070:81(575.2)(04)
Газетный язык представляет собой одно из наиболее эффективных средств формирования общественного мнения и донесения информации до аудитории. Газетные тексты характеризуются специфической стилистической структурой, в рамках которой особое значение имеет выбор и использование лексических средств. Лексическая коннотация определяется наличием у слова дополнительных эмоциональных и экспрессивных оттенков помимо его основного лексического значения. Данные средства активно применяются в газетной речи с целью привлечения внимания читателя, пробуждения интереса, убеждения, а также оказания эмоционального воздействия.
По словам Норберта Винера, «информация – обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему наших чувств. Процесс получения и использования информации является процессом нашего приспособления к случайностям внешней среды и нашей жизнедеятельности в этой среде» [8].
Но газетный текст – это не просто информация, а информация плюс коннотация, а публицистические жанры – это сфера, где коннотация как экспрессивное средство языка проявляется наиболее ярко в силу наличия, наряду с информативной функцией, еще и функции воздействия на читателя, когда «динамика изложения сочетается с экономией речевых средств и образностью повествования» [6].
Cжато, но ёмко излагая информацию средствами языка, содержащими сильный элемент коннотации, автор даёт описываемым им событиям и их участникам свою оценку, которую он транслирует своей аудитории. Оценка, по сути, «лежит в основе коннотативного компонента значения слова, является фундаментом порождения коннотативных смыслов» [2].
Большую роль играет коннотативная лексика в газетных текстах политического содержания, выступая (порой неявно, завуалированно) средством политической борьбы, выражения политического мнения. Правильно, тонко построенная политическая речь обладает большой силой воздействия, а политический язык — «это оружие контроля над обществом в целом… Политические речи создают и поддерживают социальные связи, выражают эмоции и продают идеи» [7].
Неслучайно СМИ, в том числе – газеты, называют «четвертой властью», ведь они «имеют невообразимую власть над общественным сознанием», а их роль «выражается в формировании… псевдоличной точки зрения населения к разного рода событиям» [3].
Лексические коннотации, функционирующие в средствах массовой информации, выполняют ряд важных функций. Во-первых, они способствуют более эффективной передаче информации. Во-вторых, они позволяют акцентировать внимание читательской аудитории на происходящих событиях, воздействовать на её настроение, вызвать эмоциональный отклик. В-третьих, использование лексических коннотаций направлено на формирование у читателей различных чувственно-оценочных реакций. С этой точки зрения, газетная коннотация выполняет также рекреативную функцию (развлечение, эмоциональная разрядка).
Примером издания, в котором подобные языковые особенности нашли яркое отражение, является кыргызоязычная газета «Агым», которая имеет длительную и насыщенную историю своего функционирования. В советский период она выходила под названием «Ленинчил жаш», в постсоветское время — как «Асаба», позже — «Агым», и в дальнейшем — «Жаңы Агым». Неоднократное изменение названия газеты отражало изменения в общественно-политической жизни страны, политическую атмосферу, которая царила в тот или иной промежуток времени [1, 4, 5, 9].
Значительный вклад в формирование имиджа и общественного авторитета издания внёс его главный редактор Мелис Эшимканов. Благодаря его редакционной политике газета превратилась в авторитетное и популярное среди читателей средство массовой информации. На её страницах освещались различные социальные и политические процессы, нередко сопровождавшиеся критикой в адрес властей. Издание пользовалось интересом читательской аудитории, способствовало формированию общественной дискуссии, а в ряде случаев не избегало острых, даже провокационных высказываний. Подобная редакционная стратегия отражала личную позицию главного редактора, который открыто выражал свои взгляды по отношению к политическим противникам и оппонентам. Следует отметить, что некоторые действия газеты выходили за рамки правового поля, регулирующего деятельность СМИ. Однако, несмотря на это, она пользовалась широкой поддержкой населения. Ярким примером служит статья М. Эшимканова, опубликованная в №57 за 2002 год под заголовком «“Агым” гезити ким тарапта: Акаевби же оппозициябы?» (На чьей стороне газета "Агым”: Акаева или оппозиции?). В данной публикации автор предпринимает попытку ответить на актуальный общественный вопрос: кырг.: “Мындан 5–6 жыл мурда биздин үркөрдөй чыгармачылык топ чыгарган эски «Асаба» гезити Ак үй саясатына ачык каяша айтып, карапайым адамдардын арманын угузуп, чындык үчүн чыркырап, коомубуздагы Агымга каршы сүзгөндө эмне болду эле? Бийлик арзыматтары оңдон-солдон тепкилешкен, капкара ылай менен шыбашкан, эл душмандары деп жарлык тагышкан, сот, прокурор, милийса, салыкчынын сыйыртмагы менен муунтушкан, автоматчан ОМОН менен өз имаратыбыздан кууп чыгып, бир нече ирет түн каракчыларынын колу менен оокат-мүлкүбүздү мойсошкон, жардыргыч заттар менен өрттөшкөн, «Асабаны» баш кылып жети тиркемебизди жаап тынышкан”. (5–6 лет назад наша крошечная творческая группа издавала газету "Асаба", которая открыто выступала против политики Белого дома, доносила до общества чаянья простого народа, подавала голос в защиту правды и плыла против Течения, господствующего в обществе И что же в результате? Мы подверглись жесткому давлению со стороны власти: нас дискредитировали, объявляли врагами народа, на нас оказывали давление судебные и правоохранительные органы, нас выгоняли из здания автоматчики ОМОН, наше имущество неоднократно подвергалось ночным погромам, офис поджигали с использованием взрывчатки, а сама газета и её семь приложений были закрыты» [4].
Если взглянуть на кыргызский текст приведенного отрывка, можно увидеть, что главный редактор умело использует коннотативную лексику с яркой выразительностью. Он подчеркивает небольшой размер творческой группы газеты: по-кыргызски о ней сказано «үркөрдөй» — «как созвездие Плеяда», что не только передаёт денотативное значение «небольшое число», «несколько», но и придаёт описанию сравнительную коннотацию. Выражение «Агымга каршы сүзгөндө» — «плыла против течения» несёт в себе коннотацию противостояния политической власти, причем намеком на власть служит и то, что слово «Течение» начинается с заглавной буквы. О давлении со стороны властных структур буквально говорится: «Бийлик арзыматтары оңдон-солдон тепкилешкен» — «пинки со всех сторон от молодчиков власти», тем самым давая понять, что давление было многосторонним, а слово «арзыматтар» – «молодчиков» – это язвительное описание показной смелости власть имущих. Фраза «капкара ылай менен шыбашкан» — «обливали (дословно «мазали») чёрной грязью» — это пример усиленной коннотации слова «очернение». Употребление разговорной формы «милийса» (близкое к русскому «менты») вместо «милиция» придаёт фразе иронический, пренебрежительный оттенок. Выражение «салыкчынын сыйыртмагы менен муунтушкан» — «налоговики душат силой» (по-кыргызски «душили удавкой») обозначает необоснованные поборы со стороны налоговой инспекции, а «түн каракчыларынын колу менен оокат-мүлкүбүздү мойсошкон» – дословно «громили наше имущество руками ночных разбойников» еще больше усиливает акцент на бесчинстве предпринятых против газеты действий. В целом, статья с помощью эмоционально-выразительных языковых средств ярко передаёт тяжёлые времена, которые пережила газета «Агым».
Также в этой объёмной статье М. Эшимканов с помощью коннотативной лексики язвительно отзывается о тех, кто якобы поддерживал «Агым»: «...момун элибиз момурап, унчукпай карап турган. «Асаба» аттуу жаш козуну мууздап атышат, бечарага убал болду” дегенсип. Азыр гана асмандан топ этип түшө калгансыган, бир паста жолборс терисин жамына калган «баатырларга» айланган эргулдарыбыз: ультрарадикалдардын мээ чөйчөгүндөй И. Кадырбеков менен тилинен чаң чыккан досум А. Мадумаров, Аскердик башкы командачы Акаевдин колтугунда орунбасар катары ордо аткан генерал И. Исаков, Европа менен Бишкектин ортосунда кимдердин укугун коргогону белгисиз Р. Дырылдаев, «кошелегу» калыңдарды соттон актаган А. Бекназаров, Университетинен 10 миң доллар мойсоп ийип түрмөгө камалып жатканда бир жыл бою «Асабадан» акчалай жардам алып турган Т.Тургуналиев ж.б. кайда жүрүштү эле?» («...наш послушный народ молча наблюдал, мол “режут ягненка по имени «Асаба», жалко беднягу, не повезло”. А где же были в это время наши удалые ребята, словно только что свалившиеся с неба и вмиг превратившиеся в «витязей в тигровой шкуре»: мозговая коробка ультра-радикалов И. Кадырбеков и мой словоохотливый (аж пыль с языка летит) друг А. Мадумаров, метавший бабки в игре Ордо из-под мышки верховного главнокомандующего Акаева, его заместитель – генерал И. Исаков, защищавший непонятно чьи права (мотаясь) между Европой и Бишкеком Р. Дырылдаев, оправдывавший в судах тех, у кого кошелек потолще, А. Бекназаров и получавший финансовую помощь от «Асабы» в течение года, пока сидел в тюрьме хапанул 10 тысяч долларов у своего Университета Т. Тургуналиев?») [4].
Автор сравнивает трудности, которые переживала газета, с закланием невинного ягнёнка: «Асаба» аттуу жаш козуну мууздап атышат, бечарага убал болду» – «режут ягненка по имени «Асаба», жалко беднягу, не повезло”, — а бывшие единомышленники, с которыми когда-то были добрые отношения, названы «удалыми ребятами» – «эргулдарыбыз». Он критикует своих бывших друзей, резко изменивших свою позицию: политика Ишенбая Кадырбекова уподобляет «мозговой коробке ультрарадикалов», о Адахане Мадумарове говорит, что у него «аж пыль с языка летит» – «тилинен чаң чыккан», генерала Исмаила Исакова обвиняет в том, что «метал бабки из-под мышки Акаева» – «Акаевдин колтугунда.. ордо аткан», то есть униженно прислуживает президенту. Правозащитника Рамазана Дырылдаева характеризует как человека, «защищавшего непонятно чьи права» – «кимдердин укугун коргогону белгисиз», критикует неэффективную деятельность Азимбека Бекназарова, оправдывавшего тех, «у кого кошелек потолще» – «кошелегу» калыңдарды», а говоря о коррупционном скандале, к в который попал Топчубек Тургуналиев, пишет: «10 миң доллар мойсоп ийип» – «хапанул (буквально: «сожрал без остатка») 10 тысяч долларов». Автор задается вопрос: «где ж они были в это время?». Всё эти характеристики представляют собой примеры яркого коннотативного содержания в газетном тексте.
В том же издании газеты «Агым» от 14 ноября 2008 года вышла статья под заголовком «Эл өкүлдөрү "киллерге" айланганда» – «Когда народные избранники превращаются в киллеров». Приведём её текст: «Гезитибиздин өткөн санында батирде жашаган "байкуш" депутаттар туурасында макала жарыяланган. Ошондон бери кабарчыбыз Келдибек Назировго звандап (жашыруун номур менен), "үкам, тынчытып коебуз, тынч жүр" деп коркуткандардын саны арбыды. Андыктан, журналистибиздин бир тал чачы түшсө, сенаторлор жооп берерин эскерте кетели. Баса, ошол макаладан кийин парламентарийлер С.Кадыралиев менен Ж.Салахудинов квартирадан баш тартышты. Калгандарынын бети чымырап да койбой, батирде жашаган "байкуш" турмушун улантышууда». («В предыдущем номере нашей газеты была опубликована статья о “бедных” депутатах, проживающих в арендованных квартирах. С тех пор нашему журналисту Келдибеку Назирову стали названивать (с анонимных номеров) с угрозами: “Братишка, мы тебя успокоим, веди себя тихо”. Поэтому хотим предупредить: если хотя бы волос упадёт с головы нашего журналиста — сенаторы будут нести ответственность. Кстати, после той публикации депутаты С. Кадыралиев и Ж. Салахудинов отказались от квартир. Остальные же — без зазрения совести — продолжают жить своей “бедной” жизнью в арендованных квартирах» [1]).
Здесь стоит ещё раз напомнить, что взятие некоторых слов в кавычки меняет их прямое значение. В этом тексте, например, слово «бедные» используется в переносном смысле, со скрытой иронией. Кроме того: «звандоо» – «звонить», разговорное выражение, искаженная форма русского слова; «тынчытып коебуз» – «успокоим» в данном контексте означает «убъем»; «тынч жүр» – «веди себя тихо» — это угроза: не вмешивайся, не лезь; «бир тал чачы түшсө» – «если упадёт хотя бы один волос с головы» означает «подвергнуть физическому нападению, нанести вред»; «сенаторлор» – «сенаторы»: с сарказмом вместо привычного «депутаты» использовано зарубежное «сенаторы»; «бети чымырап да койбой» – «без зазрения совести» (буквально: «даже лицо (от стыда) не загорелось»): здесь подчёркивается безразличие и отсутствие совести.
Таким образом, этот пример чётко показывает использование коннотативной лексики, выражающей чувство стыда. Подобного рода коннотации часто встречаются в средствах массовой информации. Они используются для того, чтобы косвенно указать на негативные явления в обществе и поведение людей, не желающих признавать свои проступки.
Еще один пример. В газете «Жаңы Агым» от 11 марта 2002 года была опубликована статья композитора Турдубека Чокиева под заголовком «Эпитеттерден этият болсок» – «Будем осторожны эпитететами». В ней он критикует все более распространяющиеся необоснованные самовосхваления людей искусства: «...кайсы бир “жылдыз” менен маекте сөзсүз “менин талантымды баалагандар”, “менин чыгармачылыгымды колдогондор” сыяктуу фразалар кездешет», «...чыгармачыл адам деп чыгармалары ооздон оозго өтүп ырдалып, китептери талашка түшүп окулуп, ойногон ролдору көзгө көрүнүп калган, бараандуу эмгек жараткандарды айтчу элек. Адис сынчылардын сынынан, элдин элегинен өткөн соң гана ошол чыгармачыл адам экендиги таанылчу. Ал эми анын талант экендиги коомчулукта толук кандуу пикир жаралып, чыныгы таланттуу чыгармалары менен чыга келгенде аныкталчу» («…в интервью с какой-нибудь “звездой” обязательно встречаются фразы типа “те, кто ценит мой талант”, “те, кто поддерживает моё творчество”». «…настоящим творческим человеком было принято называть того, чьи произведения передаются из уст в уста, чьи книги читаются, порождая споры, чьи роли не проходят незамеченными. Только пройдя критику специалистов, сито народной оценки, он признавался как действительно творческий человек. А то, что он действительно талант становилось очевидным тогда, когда в обществе зарождалось полноценное мнение о нём, когда он представлял свои поистине талантливые произведения») [5].
Лексическая коннотация в заголовке статьи выражается уже в эпитете «какая-то “звезда”» — «кайсы бир “жылдыз”». Ведь в общественном сознании сложилось восприятие талантов как людей высокой духовности, которых можно сравнивать со звёздами. Однако автор берет это слово в кавычки, что указывает на его переносное значение — речь идет не о настоящей звезде, а о человеке, стремящемся к ложной славе, обладающем поверхностным талантом. Эта лексическая коннотация относится к недостаточно талантливым, не достигших популярности, признания, но считающими себя “звёздами” представителям искусства.
В то же время выражения вроде «талашка түшүп окулуп» — «читаются, порождая споры» (дословно: попадая в споры) относятся к действительно талантливым писателям, а «ролдору көзгө көрүнүп» – «роли которых не проходят незамеченными» (буквально: «видны глазу») — к настоящим мастерам искусства. «Пройти сито народной оценки» означает пройти проверку народа, быть признанным обществом, тогда как «зарождалось полноценное мнение» — «толук кандуу пикир жаралып» значило, что творческий человек сумел полностью раскрыть свои возможности, продемонстрировать свою многогранность.
Действительно, сегодня, какую бы газету или журнал ни открыть, везде можно встретить молодых людей, которые без стеснения называют себя творческими личностями или талантами. Критически оценивая это явление, автор статьи пишет: «Чолок-чолок, ар кайсыдан көчүргөн обон же ыр жаза калып, көчө анекдотторунан куралган интермедия ойной калып, фотоаппарат менен клип же кино тарта салып эле “таланттуу”, “чыгармачыл” болуп чыга келишкендерине куйкаң курушат турбайбы. Куруштуруп эмне кыласың дегендер четтен чыгар. А коом каякка барат?» («Досада берет, когда, написав пару обрывочных мелодий или стихов, разыграв интермедию, скроенную из уличных анекдотов, сняв клип или фильм на фотоаппарат, они тут же становятся “талантливыми”, “творческими”. И немало найдется тех, кто скажет: “Да брось досадовать?”. Куда же катится общество?») [5].
Как мы видим, выражение «обрывочные» – «чолок-чолок» передает денотативное значение «короткие, не цельные», «интермедия, скроенная из уличных анекдотов» – «көчө анекдотторунан куралган интермедия» означает отсутствие настоящего творческого подхода, а взятые в кавычки слова «таланттуу», «чыгармачыл» — «талантливый», «творческий» подчеркивают ироничный, переносный смысл. Фраза «куйкаң курушат» – «досада берет» указывает на чувство стыда за чужую нескромность, а выражение «четтен чыгар» – «и немало найдется» передает общественное безразличие. Таким образом, основная идея статьи — критика неуместного, чрезмерного использования эпитетов в публикациях подобных материалов в СМИ, что, по мнению автора, отражает хаос в сфере культуры и искусства и способствует росту некачественных произведений.
Подводя итог, можно сказать, что в газетных текстах лексические средства коннотации выполняют конкретные функции, пробуждая эмоции читателя и направлены на повышение эффективности передачи информации. При этом стоит отметить, что коннотированные лексические средства вызывают у читателей разные чувства: иногда — иронию, иногда — восхищение, а в некоторых случаях — удивление.