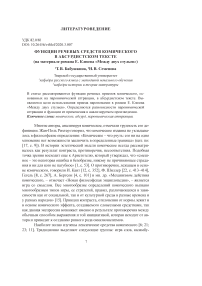Функции речевых средств комического в абсурдистском тексте (на материале романа Е. Клюева "Между двух стульев")
Автор: Бабушкина Татьяна Владимировна, Семенова Нина Васильевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются функции речевых приемов комического, основанных на паронимической аттракции, в абсурдистском тексте. Выявляются цели использования приема парономазии в романе Е. Клюева «Между двух стульев». Определяются разновидности паронимической аттракции и функции ее применения в анализируемом произведении.
Комическое, абсурд, паронимическая аттракция
Короткий адрес: https://sciup.org/146281727
IDR: 146281727 | УДК: 82.0/81 | DOI: 10.26456/vtfilol/2020.3.007
Текст научной статьи Функции речевых средств комического в абсурдистском тексте (на материале романа Е. Клюева "Между двух стульев")
Многие авторы, анализируя комическое, отмечали трудность его дефиниции. Жан-Поль Рихтер говорил, что комическое издавна не укладывалось в философские определения: «Комическое – что ртуть: его ни на одно мгновение нет возможности заключить в определенные границы» (цит. по: [17, с. 9]). В истории эстетической мысли комическое всегда рассматривалось как результат контраста, противоречия, несоответствия. Подобная точка зрения восходит еще к Аристотелю, который утверждал, что «смешное – это некоторая ошибка и безобразие, никому не причиняющее страдания и ни для кого не пагубное» [1, с. 53]. О противоречии, лежащем в основе комического, говорили И. Кант [12, с. 352], Ф. Шиллер [22, с. 413–414], Гегель [8, с. 267], А. Бергсон [4, с. 101] и мн. др. «Механизмом действия комического, – отмечает «Новая философская энциклопедия», – является игра со смыслом. Все многообразие определений комического вызвано многообразием типов игры, ее стратегий, правил, различающихся в зависимости как от социальной, так и от культурной среды в разные времена и у разных народов» [15]. Принцип контраста, отклонения от нормы лежит и в основе комического эффекта, создаваемого словесными средствами, так как данная экспрессия возникает именно в результате противоречия между обычным способом выражения и той инициативой, которая исходит от автора и приводит к созданию разного рода окказионализмов.
Наиболее полно изучены лексические средства комического [6; 21; 23; 11]. Традиционно выделяют следующие группы: игра слов, каламбу- ры; приемы, основанные на нарушении норм сочетаемости (лексико-стилистической или лексико-семантической). Каламбур может быть основан на многозначности слова, на омонимии, на столкновении слов, близких по звучанию, на ложной этимологизации. В основе каламбура могут лежать также слова, близкие по звучанию, но различные по семантике, то есть паронимы. Терминология применительно к созвучным словам довольно разнообразна. Исследователи выделяют различные группы сходных по звучанию слов: паронимы, парономасы, – неодинаково трактуя каждый из терминов (ср., например, определения паронимов: [7, с. 72], [2, с. 313] – и [3, с. 3], [9, с. 264]). Нет единого терминоупотребления и при назывании сближения паронимов в речи; это явление называется и парономаз(с)ей [2, с. 313], и паронимической аттракцией [10; 20], и паронимией [19; 20]. Используются также термины анноминация, тавтология [20] применительно к употреблению определенной группы близких по звучанию слов.
Механизм возникновения комического эффекта в каламбурах можно считать изученным. Речь, не претендующая на создание комической экспрессии, организуется таким образом, чтобы из двух означаемых, выраженных одним означающим, или только первое, или только второе имелось в виду. Для создания же каламбура контекст должен быть организован иначе. При этом создаются условия для одновременного восприятия двух или нескольких означаемых.
Особого внимания заслуживает каламбур, основанный на парономазии: «Фонетическое сходство рядом соположенных слов (так же как и в случае, если одно из них представлено имплицитно. – Т. Б., Н. С. ) требует от читателя дополнительного усилия для разграничения этих слов, выявления различий между ними и связей на основе сходства, т. е. требует от читателя соучастия, активизируя и направляя его внимание и затрагивая его эмоциональную сферу» [18, с. 9].
В сравнительно недалеком прошлом парономазия рассматривалась довольно часто как отрицательное явление в языке, приводящее к затемнению смысла высказывания. В последнее время определилась четкая тенденция разграничивать паронимы-ошибки и паронимы как средство выразительности [20]. Вероятно, причиной пристального внимания к данному явлению послужил «паронимический взрыв» в публицистике и художественной литературе ХХ века, о котором писал В. П. Григорьев [9, с. 251].
В художественном произведении любой его компонент функционален. Функции речевых средств, создающих комический эффект, определяются в литературоведении и в эстетике по-разному в зависимости от эстетических, этических и социальных установок авторов. Одни авторы приписывают комическому чисто социальную значимость [14; 5], считая, что только социально окрашенный, значимый, одухотворенный эстетическими идеалами смех относится к области комического. Другие считают такую точку зрения односторонней, утверждая, что комическим является то, что вместе со смехом приносит удовлетворение, удовольствие. Если традиционно в литературоведении акцентировалась моральная или даже исправительная функция комического, то по отношению к литературе абсурда акцент делается на его технической или формальной стороне, и внимание исследователей сосредоточено главным образом на проблемах использования лингвистических приемов создания комического, на «игре слов».
Однако анализ конкретного художественного произведения «Между двух стульев», которое сам его автор, Е. В. Клюев, относит к литературе абсурда, показывает, что функции речевых приемов комического определяются в каждом конкретном случае целевыми установками, образовательным и общекультурным уровнем самого автора, а также его доверием к читателю, который должен обладать достаточным кругозором для понимания, «расшифровки» авторской игры словами.
Прием парономазии в анализируемом произведении Е. Клюева используется с разными целями (далее цитаты приводятся по изданию [13] с указанием только номера страницы):
– для номинации изображаемого объекта, которая всегда содержит оценочный компонент: «Гиперболото инженера Гарина» (20) – ‘сверхболото’, ‘болото болот’; «игорный массив» (78) – название топонима; «капитанская дачка» (78), «хамская обитель», в которой живет Ваще Бессмертный – Кощей (109); надпись на табличке, указывающая на необходимость выбора пути: «Каток сознания» (109); топоним «озеро Риса» (120);
– для дефиниции персонажа: «бон Жуан» вместо дон Жуан , «Шар-мен» как соединение Кармен и фр. charmant (10); «Муравей-разбойник» (18); персонажи «Белое Безмозглое» (26); «Пластилин Мира» (39), «Тетя Капитана Франта» (39); «Дама-с-Каменьями» (118); «Смежная Королева» (80); «Гном Небесный», «Грамм Небесный», «Блудный Сор» (151); «Творец Съездов» (179);
– для оценочного описания ситуации: «Блаженны нищие духом – и блаженны, пусть в меньшей степени – нищие ухом, которые не ведают, в какие дебри может завести язык» (108); «Там с одной стороны Волка-Семеро-Казнят, на другой – вообще Дохлый Помер» (113); «…упала прямо с неба, чуть не раздавив всех в лепешку, Тонна Небесная» (232); «“Мы не рабы, рабыни мы”, – пошутила Шарломоська» (175);
– как средство развития сюжета. Словосочетание «Книга с тмином» – своего рода введение, где прием парономазии заявлен как главенствующий в повествовании. Сначала речь идет о «пироге с тмином», далее он превращается в «пирокстминам», а затем в «пирог с миной». Именно так называется первая глава романа. Взрыв этого пирога провоцирует появление новых персонажей.
Для адекватного понимания всех нюансов, порождаемых тем или иным созданным Е. Клюевым окказионализмом или необычным словосочетанием, предполагается наличие у читателя определенного круга «культурообразующих» знаний.
Каламбур, образованный путем паронимической аттракции, может быть основан на «разрушении» устойчивых оборотов, на создании на их базе окказиональных слов или словосочетаний: «Один как перс» (211), «Сколько волка ни кори…» (19), «Гном Небесный» (30), «Грамм Небесный», «Блудный Сор» – персонажи романа; «Блаженны нищие духом – и блаженны, пусть в меньшей степени – нищие ухом, которые не ведают, в какие дебри может завести язык» (108); «…упала прямо с неба, чуть не раздавив всех в лепешку, Тонна Небесная» (232); «“Взялся за гуж, не говори, что не Еж”, – оформилось в его затуманенном мозгу» (162).
Популярные отрывки-цитаты из литературных и фольклорных произведений также подвергаются трансформации: «“Мы не рабы, рабыни мы”, – пошутила Шарломоська» (175); «Тут Петропавел взял и запел хорошую походную песню, из которой почему-то получилось вот что: “Муравей, муравей в шапочке, / В тюбетеечке жалобно ползешь! / Раз ползешь. Два ползешь, три ползешь”» (115); «Серьги красавицы словно пельмени» – отрывки странным образом видоизмененной песенки герцога (23); «Из-за мыса, мыса Горн / Едет дедушка Леггорн…» – вместо потешки «Из-за леса, из-за гор / Едет дедушка Егор» (18); «Двенадцать человек на сундук холодца – / Йо-хо-хо! / И ботинки гнома… (17) – трансформация припева песни пиратов из романа Р.Л. Стивенсона «Остров сокровищ»: «Пятнадцать человек на сундук мертвеца. / Йо-хо-хо, / и бутылка рому!»
В качестве крылатых слов Е. Клюев часто использует названия известных художественных произведений, которые претерпели своего рода фразеологизацию: «Гиперболото <вместо гиперболоид > инженера Гарина» (20) получает истолкование: ‘сверхболото’, ‘болото болот’); «Мой домик иногда принимают за капитанскую дачку (78); Пластилин мира говорит: «Тут пешком полчаса через мясное царство» – имеется в виду лесное царство, на это указывает скрытая отсылка к балладе Гете «Лесной царь», которая здесь превращается в «Мясного царя» (44); в пути Петропавел узнает, что «Ваще Бессмертный <Кощей> живет в хамской обители» – трансформация названия романа Стендаля «Пармская обитель» (78); имя персонажа «Белое Безмозглое» (26) отсылает к названию новеллы Дж. Лондона «Белое безмолвие»; попав в шторм, Петропавел встречается с новым персонажем, который представляется как «Таинственный Остов» (80).
Основой для создания каламбура могут служить и имена литературных персонажей: «Бон Жуан» вместо дон Жуан (10); «Шармен», образованное соединением имени собственного Кармен с французским charmant (10); «Пластилин Мира» упоминает про «Тетю Капитана Франта» – вместо Гранта (39).
Интересный эффект получается и вследствие преобразования словосочетаний терминологического характера: «На пути Петропавла возникает дорожный указатель с названием “Каток Сознания”» (109) – вместо сочетания поток сознания , обозначающего прием модернистской литературы, передачу внутренней речи; «Игорный Массив» (78) – вместо принятого в географии сочетания горный массив ; топоним «озеро Риса» – пароним к имени собственному Рица (120); «А Творец Съездов <персонаж романа> от посредственных обязанностей приступил к непосредственным» (179), где имя героя представляет собой преобразованное сочетание Дворец съездов .
Механизм и функциональная нагрузка каламбуров Е. Клюева настолько разнообразны, что каждый пример требует отдельного анализа [16]. И хотя герои романа декларируют языковую игру как основной принцип построения произведения (персонаж Белое Безмозглое говорит: «А имя… что ж, имя – только имя: от него не требуется каким-то образом представлять своего носителя… Асимметричный дуализм языкового знака… Фердинанд де Соссюр» (27); Бон Жуан: «Милый мой, все мы просто играем словами!» (14); персонаж Эхо растолковывает Петропавлу существо приема парономазии: «Точность скучна» (121); такая игра не теряет своей мотивированности, она всегда содержательна.
Если персонаж романа именуется «Дама-с-Каменьями», это не просто создает комический эффект вследствие сопоставления с семантически антонимичным названием романа А. Дюма-сына «Дама с камелиями», но содержательно значимо: Дама-с-Каменьями – потому что «меткая, как индеец» (118). Реплика Смежной Королевы в диалоге с Петро-павлом за игрой в лото «Ну что вы уставились, как баран Мюнхгаузен?» (85) отражает и пренебрежительное отношение героини к адресату, и в то же время служит ее речевой характеристикой, поскольку она допускает, вероятно, в результате невысокой речевой культуры, контаминацию двух фразеологизированных единиц (фразеологического единства уставиться как баран на новые ворота и имени героя сказки Р.Э. Распе «Приключения барона Мюнхгаузена»).
Частое обращение к приему парономазии соответствует общей картине мира в романе «Между двух стульев», о котором автор сказал следующее: «…я обещаю не давать вам покоя, отдыха и умиротворения, я обещаю обманывать вас на каждом шагу, я обещаю так заморочить вам голову, что самые обыденные вещи станут загадочными и в конце концов непонятными, я обещаю завести вас во все тупики, которые встретятся по дороге, и, наконец, я обещаю вам крушение всех надежд и иллюзий, а также полное попирание Жизненного Опыта и Здравого Смысла» [13, с. 240].
Tver State University
Список литературы Функции речевых средств комического в абсурдистском тексте (на материале романа Е. Клюева "Между двух стульев")
- Аристотель. Поэтика. Об искусстве поэзии. М.: Худож. лит., 1957. 184 с.
- Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: Сов. энциклопедия, 1966. 607 с.
- Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Трудные случаи употребления однокоренных слов русского языка: словарь-справочник. М.: Сов. энциклопедия, 1968. 296 с.
- Бергсон А. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 5. СПб.: Изд-во М. И. Семенова, 1914. 252 с.
- Борев Ю. Комическое. М.: Искусство, 1971. 268 с.
- Булаховский Л.А. Словесные средства комического у русских писателей первой половины Х1Х века // Русский язык в школе. 1939. № 5-6. С. 44-57.
- Гвоздев А.Н. Очерки по стилистике русского языка. М.: Просвещение, 1965. 408 с.
- Гегель Г.В.Ф. Сочинения: в 14 т. Т. 13. М.-Л.: Гослитиздат, 1940. 363 с.
- Григорьев В.П. Поэтика слова. М.: Наука, 1979. 343 с.
- Григорьев В.П. Паронимическая аттракция в русской поэзии ХХ века // Сборник докладов и сообщений лингвистического общества. Вып. 5. Калинин, 1975. С. 131-164.
- Земская Е.А. Речевые приемы комического в советской литературе // Исследования по языку советских писателей. М.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 215-278.
- Кант И. Сочинения: в 6 т. Т. 5. М.: Мысль, 1966. 564 с.
- Клюев Е. Между двух стульев. М.: Гаятри, 2008. 240 с.
- Луначарский А.В. О смехе // Литературный критик. 1935. №.4. С. 3-9.
- Новая философская энциклопедия: в 4 т. М.: Мысль, 2010 [Электронный ресурс]. URL: https://gufo.me/dict/philosophy_encyclopedia. (Дата обращения: 20.07.2020.)
- Семенова Н.В., Бабушкина Т.В. "Песня о Соколе" в романе Евгения Клюева "Между двух стульев": к типологии абсурдистских текстов // Новый филологический вестник. 2019. № 1 (48). С. 222-229.
- Сретенский Н.Н. Историческое введение в поэтику комического. Учение Жан-Поля о комическом. Ростов н/Д.: Трудовой Дон, 1926. 60 с.
- Стам И.С. Экспрессивный газетный заголовок и его взаимодействие с текстом (на материале советских центральных газет и английской коммунистической газеты "Морнинг стар"): дис. … канд. филол. н.: 10.01.10 / И.С. Стам; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. М., 1982. 215 с.
- Степанова В.В. Формы слова в аспекте лексикологическом // ХХVI Герценовские чтения. Лингвистика. Научные доклады / Ленингр. пед. ин-т им. А.И. Герцена. Л., 1973. С. 3-8.
- Ткаченко Л.П. Паронимическая аттракция в русском языке и ее место в курсе лексической стилистики для иностранных студентов-филологов: дис. … канд. филол. н.: 10.02.01 / Л.П. Ткаченко; Ин-т русского языка им. А.С. Пушкина. М., 1982. 179 с.
- Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. М.-Л.: Госиздат, 1928. 240 с.
- Шиллер Ф. Собраний сочинений: в 7 т. Т. 6. М.: Худож. лит., 1957. 793 с.
- Щербина А.А. Сущность и искусство словесной остроты (каламбура). Киев: Изд-во Акад. наук УССР, 1958. 68 с.