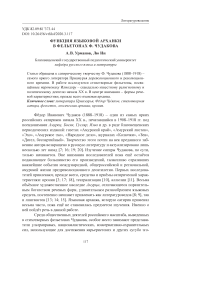Функция языковой архаики в фельетонах Ф. Чудакова
Автор: Урманов Александр Васильевич, Лю Ин
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья обращена к сатирическому творчеству Ф. Чудакова (1888-1918) - самого яркого литератора Приамурья дореволюционного и революционного времени. В работе исследуются стихотворные фельетоны, посвящённые иеромонаху Илиодору - скандально известному религиозному и политическому деятелю начала XX в. В центре внимания - формы речевой характеристики, прежде всего языковая архаика.
Литература приамурья, фёдор чудаков, стихотворная сатира, фельетон, лексическая архаика, ирония
Короткий адрес: https://sciup.org/146281698
IDR: 146281698 | УДК: 82.09:81’373.44 | DOI: 10.26456/vtfilol/2020.3.117
Текст научной статьи Функция языковой архаики в фельетонах Ф. Чудакова
Фёдор Иванович Чудаков (1888–1918) – один из самых ярких российских сатириков начала XX в., печатавшийся в 1908–1918 гг. под псевдонимами Амурец, Босяк, Гусляр, Язва и др. в ряде благовещенских периодических изданий: газетах «Амурский край», «Амурский листок», «Эхо», «Амурское эхо», «Народное дело», журналах «Колючки», «Зея», «Дятел, беспартийный». Творчество этого почти на век преданного забвению автора возвращено в русскую литературу и актуализировано лишь несколько лет назад [7; 16; 19; 20]. Изучение сатиры Чудакова, по сути, только начинается. Вне внимания исследователей пока ещё остаётся подавляющее большинство его произведений, талантливо отразивших важнейшие события международной, общероссийской и региональной, амурской жизни предреволюционного десятилетия. Первых исследователей привлекают, прежде всего, средства и приёмы сатирической характеристики: ирония [3; 17; 18], театрализация [10], аллюзии [11]. Весьма объёмное художественное наследие Амурца , отличающееся поразительным богатством речевых форм, удивительным разнообразием языковых средств, постепенно начинает привлекать как литературоведов [8; 9], так и лингвистов [13; 14; 15]. Языковая архаика, которую сатирик применял весьма часто, пока ещё не становилась предметом изучения. Именно о ней пойдёт речь в данной работе.
Среди общественных деятелей российского масштаба, выведенных в стихотворных фельетонах Чудакова, особое место занимают представители ультраправых, националистических, консервативно-охранительных сил, использующие для достижения карьеристских и других сугубо эго- истических целей принадлежность или близость к православной церкви. Речь о лезущих в депутаты Государственной думы «попах», о тех, кто прикрывает свою мировоззренческую и духовно-нравственную несостоятельность священническим облачением или показной религиозностью.
Один из таких персонажей, часто появлявшийся в произведениях Чудакова – Илиодор, в миру Сергей Труфанов (1880–1952), скандально известный политический и религиозный деятель начала XX в., иеромонах русской православной церкви, один из идейных вождей черносотенного Союза русского народа.
Впервые Илиодор был упомянут Чудаковым в фельетоне «Торжество победителей», напечатанном 3 (16) января 1909 г. в газете демократического направления «Амурский край». Произведение является откликом на важнейшее внутриполитическое событие рубежа 1908–1909 гг. – объединение во время работы III Государственной думы двух групп депутатов правого толка – так называемой «национальной группы» (группы крайних националистов) и «умеренно-правых», и создание нового думского «союза» – «русской национальной фракции». В результате «союзники» стали второй по численности (после октябристов) фракцией Думы. Тактическая блокировка националистов с октябристами фактически позволяла им получить большинство по любому выносимому на голосование вопросу.
Фельетон представляет собой фантазию (это слово автор использует в качестве подзаголовка) на тему торжества, будто бы устроенного думскими «победителями» и их сторонниками – журналистами и политиками националистической ориентации:
Под ударом банды правой
Пали левые ряды.
Награждён лучистой славой Всяк «союзник» за труды. Груду трупов ломовые Отвозили на погост, А вояки удалые
Пить сошлись победный тост [2].
Среди участников воображаемого автором «банкета» – руководитель Союза русского народа Дубровин, издатель «Нового времени» Суворин, ведущий автор этой газеты Меньшиков, церковный и общественный деятель правого толка отец Евлогий, один из лидеров русских националистов в III Государственной думе Шульгин. Ну и, конечно, столь славная компания «русских патриотов», которые призывают резать , колоть , рубить и жарить своих идейных противников, которые видят главную угрозу для самодержавно-православной Руси в «жидах» и потворствующих им интеллигентах, не могла, по мнению Чудакова, обойтись без участия Илиодора:
Мощный глас Илиодора Речь Дубровина сменил:
«Уж теперь не встанет скоро Архимандрит Михаил!
Надо вздёрнуть Льва Толстого, Мережковского сослать, А Григория Петрова
В сумасшедший дом отдать!» [2]
Являются ли плодом авторской «фантазии» радикальные призывы Илиодора, звучащие на воображаемой пирушке русских националистов? Нет, подобные высказывания довольно часто звучали в его проповедях, собиравших толпы верующих. Обладавший незаурядным даром красноречия иеромонах не раз подвергал жёсткой критике инородцев, клеймил своих идейных врагов, прежде всего из числа евреев, нещадно бичевал видных деятелей культуры.
Радикальный русский национализм, стремительно набиравшая силу в годы реакции «чёрная сотня», в представлении Чудакова, – не только одна из опор самодержавного строя, но и возможный участник грядущих политических баталий стремящейся к обновлению России. А следовательно – серьёзная угроза на пути страны к свободе. Потому-то в финале фельетона звучит – как предупреждение читателям – торжествующий выкрик Шульгина, вдохновлённого пока ещё промежуточной победой своих думских единомышленников: «Путь для нас открыт просторный… / Вижу: день уж недалёк – / Покорённый сотней чёрной, / Целый мир у наших ног!» [2].
Обращает на себя внимание прямолинейно-сатирический, сугубо обличительный пафос и дискурс фельетона, отсутствие в нём более тонкого художественно-стилистического инструментария – иронического. Главное внимание, в ущерб форме, автор уделяет расстановке идейных акцентов, он пока ещё считает обязательным «пригвоздить» своих противников, дать им уничтожающую оценку, а потому и Илиодор, и другие персонажи «Торжества…» выглядят бесхитростно-плоскими, примитивными существами. Что касается архаической лексики, которая спустя какое-то время активно будет использоваться сатириком при обращении к личности Илиодора, здесь её почти нет.
В фельетоне «Колдунья», опубликованном в ноябре того же года в сатирическом журнале «Колючки», Илиодор вновь предстаёт однолинейным образом – рьяным черносотенцем, законченным политическим мракобесом. В своей «фантастической пьесе» Чудаков рисует символическую картину российской действительности периода реакции, наступившей после поражения первой русской революции. И одним из знаковых и самых одиозных общественных деятелей, олицетворяющих зловонное реакционное «болото» и обитающую в нём политическую «нечисть», в «Колдунье» предстаёт, наряду с фигурировавшим и в «Торжестве победителей» карикатурным Дубровиным, Илиодор:
«Сцена: болото русской действительности.
На сцене разная нечисть, вроде октябристов, умеренно-правых и т.п., которая под видом кочек густо рассыпалась по болоту. Густые сумерки и скверный запах. В отдалении хохочет Дубровин. Ноет выпью Илио-дор. Квакает “Русское знамя”. <…> Жуть» [1, с. 4].
В данном фельетоне, как и в предыдущем, Илиодор представлен не как иеромонах, священнослужитель, а исключительно как политик. Он вписан в контекст общественно-политической, а не церковной жизни. В 1909-м сатирик не делает акцента на монашестве персонажа, на несовместимости религиозного служения и политиканства самой низкой пробы, не обыгрывает это обстоятельство. И, очевидно, поэтому не обращается к церковнославянизмам, к лексической архаике как средству сатирической или иронической характеристики. Подобное произойдёт позже, спустя два-три года, и тогда же Илиодор начнёт представать, пусть формально, что называется «по одёжке», и в ипостаси иеромонаха. А в художественном пространстве «Колдуньи» Илиодор – один из тех, кто представляет силы самой мрачной политической реакции.
Что касается поэтики, стилистики, художественных форм, которые использует автор «Колдуньи», они пока остаются неизменными – такими же бесхитростными, как в «Торжестве победителей».
На рубеже 1911–1912 гг. газеты буквально захлестнула волна публикаций, посвящённых Илиодору, его скандальным выходкам, его лихорадочным перемещениям по стране. В этот период иеромонах стал едва ли не самой популярной общественной фигурой: буквально каждое его перемещение и каждое высказывание становились достоянием гласности, беспрестанно обсуждались и цитировались. Азарт, с которым газетные репортёры преследовали Илиодора, отслеживая каждый его шаг, к началу 1912-го достиг апогея, а сам иеромонах стал в глазах части общества фигурой почти мифической, наделённой сверхъестественными свойствами.
Этот общественный и информационный ажиотаж запечатлён в фельетоне «Накипь дня (Мчатся, мечутся филёры…)», опубликованном в умеренно-либеральной газете «Эхо» 12 (25) февраля 1912 г.:
Мчатся, мечутся филёры, Жадно ловят всякий слух, Но на след Илиодора Не наводит острый нюх. То Царицын телеграммой Отзовётся: «Здесь сидит!», То в Москву, одевшись дамой, Он из Питера катит.
То с газетным репортёром Он столкнётся лоб о лоб, То по небу метеором
Промелькнёт и бац в сугроб! Прибежит сюда погоня, Пролетит во весь опор, – Ан, в Игнатьевском салоне Уж сидит Илиодор.
Заручившись тьмой протекций, Проползёт сюда шпичёк, – Глядь, уж он для чтенья лекций Мчится вихрем на Восток. И таким неуловимым, Скользким стал со всех сторон, Что и с чеховским налимом Смело спорить может он. Тщетно юркие филёры Напрягают чуткий слух: Их на след Илиодора Не наводит острый нюх! [5]
В этом тексте Чудаков развивает тему «неуязвимости» и «неуловимости» Илиодора, затронутую ранее в фельетоне «Накипь дня (Говорят, что очень скоро…)» [4]. Но есть в произведении и нечто новое – преобладание смеха, весёлого иронического дискурса. Автор буквально купается в волнах этой иронии, она становится главным, причём несравнимо более действенным и гибким, а главное более органичным для него художественным средством. Как следствие, персонаж, выглядевший в прежних фельетонах уныло-однообразным фанатиком, идеологическим «мастодонтом», преображается: теперь это не примитивный, крайне ограниченный черносотенец, не заскорузлый мракобес-националист, а необычайно подвижный и ловкий проходимец, изворотливо-скользкий, постоянно мутирующий, умеющий мгновенно приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам, нацеленный исключительно на извлечение личной выгоды.
В январе 1912 г. по постановлению Синода Илиодор был заточён во Флорищеву пустынь – мужской монастырь в пос. Флорищи Нижегородской губернии. Вскоре он попытался совершить побег.
Откликом на «новый трюк Илиодора» стал фельетон «Накипь дня (Се аз гряду, от сна восстав…)», опубликованный 3 (16) июня 1912 г. Фельетону предпослана преамбула: «Илиодор телеграфно извинился перед Синодом за попытку бежать из Флорищевой пустыни . (Факт) ».
По форме произведение представляет собой созданное творческим воображением сатирика, иронически стилизованное покаянное письмо, написанное от лица Илиодора и адресованное Святейшему Синоду – одному из высших государственных органов Российской империи, ведавшему делами православной церкви.
Но и первая, пятистрочная, строфа, предваряющая собственно «письмо», тоже представляет собой рассказ самого иеромонаха, его уст- ный монолог от первого лица: «Се аз гряду, от сна восстав, / На телеграф, на телеграф. / И, подобрав под зад хитон, / Сажусь смятён, пишу «пардон» / И шлю в шумливый Вавилон» [6].
Автор произведения, напрямую себя не проявляющий и не говорящий от своего имени, взявший на себя роль некоей «передаточной» нарративной инстанции, ретранслирующей монолог хорошо известного читателям-современникам религиозного деятеля, стремится и на лексическом, и на синтаксическом, и на понятийно-образном уровне воссоздать сознание, мышление (и, соответственно, речь) человека духовного звания, получившего хорошее богословское образование, воспитанного на священных текстах, привыкшего говорить на особом, присущем людям духовного звания языке. И в то же время изрядно политизированного, вовлечённого в проблемы «мирской» жизни, имеющего и сугубо «земные» наклонности. Отсюда – причудливое лексическое смешение, затейливая словесная какофония, проявляющая, отражающая поразительную «многогранность» и «гибкость» данной личности.
В приведённой выше строфе встречаются выражения, характерные для речи священнослужителя и воспринимающиеся обычным, светским читателем как речевая архаика: се аз гряду , восстав , хитон . Следует при этом отметить, что только одно, идущее первым, словосочетание обнаруживает явную принадлежность к церковнославянскому языку, к священным религиозным текстам: се аз гряду . Оно встречается в ветхозаветной Книге пророка Захарии: «Красуйся и веселися, дщи Сионя, зане, се, Аз гряду и вселюся посреде тебе, глаголет Господь» (в совр. переводе: «Ликуй и веселись, дщерь Сиона, ибо вот Я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь») (Зах. 2: 10). Однако заданный в начале первой строки возвышенно-торжественный церковнославянский тон и заключённый в выражении се аз гряду сакральный смысл тут же сбиваются оборотом от сна восстав , который заставляет вспомнить начальную строфу поэмы Н.А. Некрасова «Современники» (1875): «Я книгу взял, восстав от сна, / И прочитал я в ней: / «Бывали хуже времена, / Но не было подлей» [12, с. 187].
Вторая же строка, указывающая, причём с повтором, куда именно направляет свои стопы пробудившийся от сна иеромонах ( На телеграф, на телеграф ), полностью нейтрализует заданную было выше повествовательную (и заодно – смысловую, содержательную) стратегию, ибо телеграф никак не вяжется не только с сутью пророчества Захарии, но и с лексическим рядом, представленным в первой строке.
Третья строка (И, подобрав под зад хитон…) ещё в большей степени профанирует ситуацию, обнажая плотскую, низменную сущность того, кто по внешнему виду и некоторым высказываниям мог быть воспринят как человек подлинно духовный. Произносимое им грубо-просторечное слово «зад» шокирующе диссонирует с одеянием, которым прикрывается эта часть тела. В православии хитон – принадлежность облачения монахов, схимников, одежда из грубой ткани, так называемая власяница, носимая под рясой. Актуализация придавливающего хитон «зада» у того, кто пытается выступать в роли «схимника», сводит на нет его претензии на духовность и, тем более, святость.
Строка четвёртая ( Сажусь смятён, пишу «пардон» ) лишь усиливает контраст, ибо выделенное кавычками и становящееся просторечием в данном речевом контексте слово «пардон» в устах «схимника», «молельщика» не менее чужеродно, чем пресловутый «зад». Лексема «пардон», как и слово «зад», создают явственный иронический эффект – главное средство характеристики персонажа в данном произведении.
Наконец, пятая, заключительная строчка первой строфы ( И шлю в шумливый Вавилон ), с одной стороны, внешне как будто бы органична для сознания и речи священнослужителя, с другой, содержательно более тяготеет не к библейской мифологии и образности, а к современным политическим реалиям, к метафорам, которые активно используются в актуальной газетной публицистике. В буквальном значении Вавилон – древний город, ставший в системе библейских образов символом безбожия, порчи нравов. Вавилоном в переносном смысле называют место, где господствует развращённость нравов. В данном контексте под «шумливым Вавилоном» персонаж фельетона подразумевает Петербург – столицу Российской империи, место нахождения Синода.
В проанализированном фрагменте автор позволяет себе более явственно, чем в тексте следующего далее «письма», внедрять в речь персонажа нецерковные слова, создавая тем самым комический и иронический эффект. Таким образом он пытается донести до читателя мысль, что в своём обычном «бытовом», «внеслужебном» поведении Сергей Труфанов не совпадает с образом (или сознательно используемой маской) иеромонаха Илиодора. Здесь зазор между, условно говоря, Сергеем и Или-одором , между мирским и духовным началами в одном и том же человеке максимально велик.
Приведём оставшуюся часть фельетона – то есть само «письмо» героя, для вящего правдоподобия маркируемое автором кавычками:
«Отцы! Молю, вонмите гласу, Чернца, носяща тёмну рясу, Его же ввергли в хлад и прах… У врат стояща кустодия Внушает мысли неблагие...
Увы и ах! Увы и ах!
И аз, смиреннейший келарий, Купивши брюки за динарий И в ту же сумму пиджачок, Аз, как жених, грядый в полнощи,
Хотел дерзнуть иль, молвить проще, Сбежать, пуститься наутёк.
Попутал бес... Воплю и каюсь
И зарекаюсь, обещаюсь
Сидеть смиренно с этих пор.
Молельщик ваш Илиодор » [6].
Первая половина «письма» в лексико-фразеологическом отношении, «на слух» выглядит более цельно, чем предваряющая его «устная» речь персонажа: здесь нет откровенно чужеродных вкраплений, какие были в первом пятистишии. «Эпистолярный» текст в этой части заполнен по преимуществу церковнославянской лексикой и такой же фразеологией, вполне естественными для речи священнослужителя: молю , вонмите (то есть, выражаясь современным языком, внимайте) гласу , ввергли в хлад и прах , у врат стояща кустодия (стража, караул), аз (я), смиреннейший ке-ларий (монах, обитатель монашеской кельи) и т.д. Подобная лексика могла бы участвовать в формировании образа пострадавшего за религиозные убеждения, за верность духовным идеалам «чернца», но при непременном условии: если бы ей не предшествовала лексика иного рода, которая озвучивалась выше, в «устной» речи персонажа. И если бы во второй половине «письма» фельетонный Илиодор опять не сбился бы с взятого им тона и не стал бы вновь воспроизводить слова, диссонирующие с церковным лексиконом. Употребляемые в данном жанрово-языковом контексте – то есть в покаянном послании монаха Синоду – просторечные слова ( купивши брюки , пиджачок , пуститься наутёк , обещаюсь ) вновь проявляют плохо скрытую «мирскую», «земную» сущность того, кто пытается предстать молельщиком , иноком . То есть иронический смысл создают не сами по себе архаические языковые формы, а их взаимодействие с контрастной в стилевом отношении лексикой – сниженной, разговорной, грубо-просторечной.
Но не только: иронию порождает также контрастное сочетание используемых фельетонным Илиодором библейских, церковнославянских речевых конструкций и приземлённо-обыденного, чисто обывательского поведения облачённого в хитон и «тёмну» рясу персонажа. Комизм возникает и из-за несоответствия возвышенной речевой самопрезентации персонажа ( чернец , смиреннейший келарий , молельщик ) тому, о чём он рассказывает. Монах, пользующийся словами «пардон» и «обещаюсь», покупающий для себя «пиджачок» и в таком одеянии пускающийся из монастыря «наутёк», выглядит в глазах читателя, по меньшей мере, несуразно и смешно. Неуместность архаичной церковнославянской лексики при описании подобных действий очевидна, и это несоответствие рождает яркий иронический эффект.
В «эпистолярной» части фельетона самая содержательно «нагруженная» и самая неуместная в контексте описания Илиодором его неудав- шегося побега языковая конструкция: «Аз, как жених, грядый в полнощи, / Хотел дерзнуть иль, молвить проще, / Сбежать, пуститься наутёк». Первая из трёх процитированных строчек является почти точной цитатой начала церковного песнопения – тропаря, который исполняется (трижды) в первые три дня Страстной недели после «Аллилуйя»: «Се, Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща; недостоин же паки, егоже обрящет унывающа. Блюди убо, душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши, и Царствия вне затворишися; но воспряни зову-щи: Свят, Свят, Свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас».
Жених, который грядет в полунощи , в данном церковном контексте – Христос. Что касается смысла процитированного молитвословия, то он заключается в следующем: земная жизнь человека – испытание, подготовка к встрече с Христом и Вечной жизнью. И при этом никто не знает, когда, в какой момент оборвётся его земной путь. Тропарь призван напомнить человеку о возможности внезапной встречи с Судией мира и тем самым побуждает к постоянному духовному бодрствованию.
В момент публикации произведения Чудакова подавляющему большинству его читателей был хорошо известен источник, из которого фельетонный Илиодор позаимствовал выражение « жених, грядый в полнощи ». Понятно им было и то, с кем дерзнул сравнить себя персонаж, сбросивший с себя монашеское облачение и в мирском «пиджачке» пустившийся «наутёк» из скромной кельи – с Христом. Запредельная неуместность такого сравнения – один из авторских приёмов создания иронической модальности, с помощью которой Чудаков и выстраивает образ скандального иеромонаха. Илиодор, выведенный в датированном 1912 годом фельетоне, способен вызвать у читателя лишь смех, а вовсе не «жуть» – чувство, которое вызывал обозначавшийся этим же именем персонаж «фантастической пьесы» «Колдунья» (1909). Иеромонах образца 1912 г. не страшен, а смешон и жалок в своих тщетных попытках выдать себя за того, кем он не может быть в силу свойств своей обыденной, обывательской натуры. Развенчание, разоблачение с помощью язвительной иронии, весёлого смеха, а не суровое обличение, способное лишь «демонизировать» в общем-то заурядных персонажей российской общественно-политической авансцены 1910х годов – вот тот путь, который избирает Чудаков в зрелый период своего творчества, отсчёт которого можно начинать именно с 1912-го.
Подведём итоги. Используемые в проанализированных фельетонах принципы и приёмы изображения персонажей, представляющих крайне правый фланг российского политического спектра, ощутимо меняются на границе 1911–1912 гг. Произведения, созданные в ранний период (1909–1911), как правило, имеют прямолинейно-сатирический, сугубо обличительный характер. В результате, образы идейных противников автора, в числе которых националисты-черносотенцы, политикан- ствующие «попы», смыкающиеся с самыми реакционными силами в Государственной думе октябристы, предстают примитивными существами, односложными образами.
Начиная с 1912 г. Чудаков предпочитает использовать более тонкий художественный инструментарий – иронию. Ещё одно существенное различие заключается в том, что на смену авторскому обличению, авторским убийственным характеристикам приходит саморазоблачение отрицательных персонажей. Смещение нарративного центра – от автора к персонажам – обусловливает более широкое и активное использование приёмов речевой характеристики, разнообразных языковых средств. Среди них особо важную роль начинает играть языковая архаика – и лексическая, и фразеологическая, и синтаксическая. Причём чаще всего иронический смысл создают не сами по себе архаические языковые формы, а их взаимодействие с контрастной в стилевом отношении лексикой и фразеологией – сниженной, разговорной, грубо-просторечной.
About the authos:
URMANOV Aleksandr Vasilievich – Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of Russian Language and Literature, Blagoveshchensk State Pedagogical University (675000, Blagoveshchensk, Lenina st., 104), e - mail: a.v.urmanov@ gmail.com.
Список литературы Функция языковой архаики в фельетонах Ф. Чудакова
- Босяк (Чудаков Ф.). Колдунья. Фантастическая пьеса в шести картинах, из коих четыре только подразумеваются // Колючки. 1909. № 3. 22 ноября. С. 4-8.
- Босяк (Чудаков Ф.). Торжество победителей. Фантазия // Амурский край. 1909. № 1. 3(16) января. С. 3.
- Голев М.А. Роль иронии в творчестве амурского сатирика Ф. Чудакова (на примере серии фельетонов "Песнь о Кульдурском ключе") // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки.: электронный сб. ст.Новосибирск.: СибАК. 2016. № 1 (38). С. 100-108. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sibac.info/archive/guman/1(16).pdf (дата обращения: 12.02.2019).
- Г-ръ (Чудаков Ф.). Накипь дня (Говорят, что очень скоро…) // Эхо. 1911. №839. 25 августа (7 сентября). С. 3.
- Гусляр (Чудаков Ф.). Накипь дня (Мчатся, мечутся филёры…) // Эхо. 1912. № 969. 12 (25) февраля. С. 4.
- Гусляр (Чудаков Ф.). Накипь дня (Се аз гряду, от сна восстав…) // Эхо. 1912. Прибавление к № 1056. 3 (16) июня. С. 2.
- Лосев А.В. Об одном забытом поэте (Фёдор Иванович Чудаков) // Лосев А.В. Избранные труды по литературному краеведению Приамурья. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2011. С. 144-158.
- Лю Ин. Лексические средства как форма выражения иронической модальности в фельетоне Фёдора Чудакова "Реставрация" // Молодёжь XXI века: шаг в будущее: материалы XX регион. науч.-практ. конф.: в 3 т. Т. 1. Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2019. С. 150-151.
- Лю Ин. Монологическая речь персонажей фельетонов Ф. Чудакова как форма создания иронического эффекта // Лосевские чтения: материалы регион. науч.-практ. конф. Вып. 12. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2019. С. 88-103.
- Лю Ин. Приёмы театрализации в фельетонах Ф. Чудакова о Синьхайской революции // Лосевские чтения: материалы регион. науч.-практ. конф. Вып. 11. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2018. С. 96-100.
- Лю Ин. Роль литературных аллюзий в фельетонах Фёдора Чудакова на международную тематику // Молодёжь XXI века: шаг в будущее: материалы XIX регион. науч.-практ. конф.: в 3 т. Т. 1. Благовещенск: Изд-во ДальГАУ, 2018. С. 95-96.
- Некрасов Н.А. Современники // Полное собр. соч. и писем: в 15 т.: Художественные произведения. Т. 4: Поэмы 1855-1877 гг. Л.: Наука, 1982. С.187-250.
- Пирко В.В. Повтор как способ организации художественной речи Ф. Чудакова // Лосевские чтения: материалы регион. науч.-практ. конф. Вып. 12. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2019. С. 17-30.
- Пирко В.В. Разговорно-просторечная лексика начала XX века в произведениях Ф. Чудакова // Лосевские чтения: материалы регион. науч.-практ. конф. Вып. 10. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2017. С. 15-22.
- Пирко В.В. Языковые средства создания сатиры в произведениях Ф. Чудакова // Лосевские чтения: материалы регион. науч.-практ. конф. Вып 11. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2018. С. 22-31.
- Урманов А.В. Амурский Саша Чёрный (О Фёдоре Ивановиче Чудакове) // Филологическая регионалистика: научный и информационно-аналитический журнал. 2009. № 1/2. С. 42-56.
- Урманов А.В. Образы гласных городской думы Благовещенска в стихотворных фельетонах Ф. Чудакова // Лосевские чтения: материалы регион. науч.-практ. конф. Вып. 12. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2019. С. 4-16.
- Урманов А.В., Лю Ин. Особенности сатирической типизации в фельетоне Ф. Чудакова "Баллада недалёкого будущего" // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2018. № 11-2 (89). С. 262-267.
- Чудаков Ф. "Чаша страданья допита до дна!.".: из творческого наследия выдающегося сатирика начала XX века / сост., предисл., подготовка текста, коммент. А. В. Урманова. Владивосток: Рубеж, 2016. 716 с.
- Чудаков Ф.И. Избранное: из творческого наследия выдающегося сатирика начала XX века: в 2 т. / сост., подгот. текста, вступ. ст., коммент. А.В. Урманова. М.: Викмо-М: Русский путь, 2019.