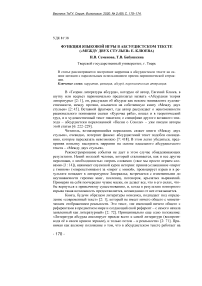Функция языковой игры в абсурдистском тексте ("Между двух стульев" Е. Клюева)
Автор: Семенова Нина Васильевна, Бабушкина Татьяна Владимировна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Исследования текста и дискурса
Статья в выпуске: 2, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается построение нарратива в абсурдистском тексте на основе цитации с параллельным использованием приема паронимической аттракции.
Нарратив, цитация, абсурд, паронимическая аттракция
Короткий адрес: https://sciup.org/146281675
IDR: 146281675 | УДК: 81’38
Текст научной статьи Функция языковой игры в абсурдистском тексте ("Между двух стульев" Е. Клюева)
В «Теории литературы абсурда», которую её автор, Евгений Клюев, в шутку или всерьез первоначально предполагал назвать «Абсурдная теория литературы» [2: 1], он, рассуждая об абсурде как некоем эквиваленте художественности, между прочим, ссылается на собственную книгу «Между двух стульев» [2: 45]. Вставной фрагмент, где автор рассуждает о невозможности рационального понимания сказки «Курочка ряба», вошел и в теоретический труд, и в художественный текст писателя; о специфике другого вставного эпизода – абсурдистски переложенной «Песни о Соколе» – уже писали авторы этой статьи [6: 222 – 229].
Читатель, вознамерившийся пересказать сюжет книги «Между двух стульев», очевидно, потерпит фиаско: абсурдистский текст подобен сновидению, которое пересказать невозможно [7: 418]. В этом легко убедиться, предприняв попытку выстроить нарратив на основе идеального абсурдистского текста – «Между двух стульев».
Реконструирование события не дает в этом случае обнадеживающих результатов. Некий молодой человек, который сталкивается, как и все другие персонажи, с необходимостью «играть словами» («все мы просто играем словами» [1: 14]), нажимает спусковой курок истории: приняв услышанное «пирог с тмином» («пирокстминам») за «пирог с миной», провоцирует взрыв и в результате попадает в литературное Зазеркалье, встречается с измененными до неузнаваемости героями книг, пословиц, поговорок, крылатых выражений. Примеряя на себя поочередно чужие маски, он делает все, что в его силах, чтобы вернуться к привычному существованию, и, когда в результате повторного взрыва такая возможность предоставляется, неожиданно от нее отказывается.
Книга, будучи образцом литературы нонсенса, подпадает под определение «современный текст» [2: 1], который не имеет ничего общего с миметическим отображением реальности. Это текст, «не имеющий ничего общего с референтами в предметном мире и создающий свой референт – с самого начала заявленный как литературный» [2: 72]. Принципиально еще одно положение: «Литература абсурда апеллирует прежде всего к самой литературе (воспроизводя её в своем кривом зеркале), и только потом – к реальности» [2: 71]. Принимая как аксиому положение о том, что в абсурдистском тексте работает на понимание только упорядоченная структура, Е. Клюев в качестве одного из самых продуктивных и сложных способов упорядочивания называет цитирование: «прием цитации – один из самых сложных способов акцентировать структуру» [2: 60].
Из всего многообразия определений цитаты [5: 246 – 251] остановимся на том, которое наиболее адекватно взятому для анализа тексту. Включая, вслед за Борисом Шварцкопфом, в понятие «цитация» использование в новом контексте не только литературных произведений, но и пословиц, поговорок, крылатых выражений, «а также фразеологических единиц и штампов» [8: 659], остановимся на специфике их функционирования.
Благодаря использованию цитат возникают отдельные нарративные цепочки, отсылающие к «Кармен» П. Мериме, басне И.А. Крылова «Слон и Моська», устойчивому выражению «ежу понятно», фольклорному сюжету о Соловье-разбойнике, «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина.
В I главе «Пирог с тмином» имя героини – испанки Шармен – представляет собой аллюзию сразу к двум источникам: примарному тексту – новелле Мериме «Кармен» и секундарному – опере Бизе. На французский источник указывает комбинация французского «charmant» («прелестный») с именем Кармен. Нарративный элемент составляют страстные объяснения в любви Шармен сначала Бон Жуану, а затем Петропавлу и Всаднику-с-Двумя-Головами. При этом каждый из участников эпизода ведет себя в соответствии с логикой, заданной претекстом.
Имя Бон Жуан маркирует испанскую и французскую литературную традицию («бон» (фр.) – «хороший», «дон» (исп.) – знак благородного происхождения). Вместе с тем «значение “хороший” более положительно ориентировано, чем “bon”. Для “bon” более значительна идея соответствия и совпадения с внешними нормативами. Очень часто при помощи “bon” обозначается снисходительность или даже уничижительное отношение к объекту… Здесь ярко проявляется привычность и обыденность, отсутствие дистанции». [3: 659]. В продолжение книги Шармен последовательно объясняется в любви всякому, кто встречается на её пути, произнося один и тот же монолог: «О любовь моя, я так долго ждала тебя! Я полюбила тебя сразу сильно и страстно: это у меня впервые в жизни!» [1: 10]. Герой, наделенный именем Бон Жуан, утрачивая частицу «дон» и с ней аристократическое происхождение, превращается в «человека, годившегося ей [Кармен] в отцы, деды и прадеды одновременно» [1: 9]. Линия Кармен завершается в 21-й главе встречей её с Белым Боном – новым персонажем, возникшим в результате обмена элементами означающего: Белое Безмозглое и Бон Жуан.
К теме Кармен отсылает и «обрывок странным образом (на основе па-ронимической аттракции – Т.Б., Н.С.) видоизмененной “Песенки герцога”:
Серьги красавицы –
Словно пельмени…» [1: 23] .
Во II главе «Засекреченный старик» нарративизация эпизода возникает в результате обыгрывания поговорки «Любопытной Варваре на базаре нос оторвали», которая превращается в «Любопытной Барбаре в походе нос оторвали» («В комоде, – поправил Петропавел» [1: 18]). Как известно, однознач- ного толкования русской пословицы о любопытной Варваре нет. Есть предположение, что в этом выражении отразилась практика средневековья, когда за кражу на рынке преступника карали усечением носа. Однако есть и другое объяснение, основанное на той же семантике слова «нос», что и во фразеологизме «зарубить себе на носу», где существительное «нос» означает дощечку, на которой делали зарубки для памяти, для денежных расчетов. Такое менее кровожадное значение пословицы вместе с заменой принятого в современном русском языке имени ‘Варвараʼ его этимологическим производящим (Варвара – от Варвар – от греческого barbarоs – иноземец [4: 76]), да еще и с поправкой «в комоде», переводит пословицу в другую семантическую плоскость, сводя её содержание к абсолютной бессмыслице, «чуши», от которой собеседник, Пет-ропавел, столбенеет (1: 18).
Буквально истолкованный фразеологизм «от сердца оторвать» объясняет появление шишки на березе. После того, как старичок, сидящий на березе, запускает в Петропавла шишкой, между ними происходит такой диалог»: Откуда у Вас шишка? – От сердца оторвал, – нашелся старичок в этой, казалось бы, безвыходной ситуации» [1: 17].
Цитата из «Песни о Соколе» Максима Горького подытоживает эпизод. После падения старичка с дерева «Петропавел бросился к пострадавшему. Тот лежал в траве и смеялся. Насмеявшись, он грамотно объяснил: “Я не убился, а рассмеялся!”» [1: 17].
Последующие примеры обнажают принципы конструирования нарратива: цитаты «растягиваются», образуя нарративные цепочки со Слономось-кой, которого (которую?) «водили», с Ежом, которому всё «понятно». И если «асимметричный дуализм языкового знака», о котором говорится в книге неоднократно [1: 27, 30, 71], напоминает о том, что имя-означающее не мотивировано объектом-означаемым («Название никогда не раскрывает сущности предмета, никогда не покрывает смысла…» [1: 30], то эпизоды со Слономось-кой и Ежом доказывают, наоборот, безусловную мотивированность означаемого означающим.
Еж в повествовании возникает, как только о нем упоминают: «Это и Ежу понятно. Эй, Еж! – крикнул он в пространство. – Тебе понятно? – Мне всё понятно, – отозвался из пространства некто Еж» [1: 21]. И при каждом последующем появлении Ежа только реализуется семантический потенциал идиомы «ежу понятно»: «Таинственный Еж деловито шмыгает туда-сюда, по-прежнему всё понимая, но никому об этом не рассказывая» [1: 226]. Когда Петропавел, нарушая правила игры, ловит Ежа, он лишает тем самым окружающих «интеллектуального критерия», что вызывает всеобщее неодобрение: «Эй, Еж! – Чего? – обиженно откликнулся Еж из мешочка. – Тебе понятно? – Нет, – закапризничал Еж. – Теперь мне ничего не понятно!» [1: 163].
Названный Ежом, Петропавел приобретает или обязан приобрести свойства Ежа. Он пробует принюхиваться, ходить на четвереньках, а также неизменно выступать в роли Ежа, которому всё понятно: «Вдруг Петропавел услышал нечто другое: – Эй, Еж! Какая-то невидимая сила вытолкнула его, как пробку, наружу. – Тебе понятно? – прозвучал знакомый голос. – Мне всё понятно, – отвечал он в соответствии со здешними традициями» [1: 165]. При этом Петропавел утрачивает способность летать. «Ежи не летают. Это и Ежу понятно», – реагирует на это обстоятель- ство Остов Мира [1: 175]. По-своему комментирует неспособность к полету Летучий Жуан: «Ужи и ежи, как мы знаем из классики… – поверх телячьей ноги намекнул тот и отвернулся» [1: 180].
Дальнейшая перспектива судьбы Петропавла обозначена трансформированной цитатой: «Тебя же потом водить будут. На – по – каз» [1: 189].
Ядро сюжета басни И.А. Крылова «Слон и Моська» проявляется уже в новом имени Петропавла – Слономоська. Нарративный потенциал цитат из этой басни определяет развитие сюжета. Начинается всё с диалога Пластилина Бессмертного и Ваще Таинственного о том, кому и куда водить Петропавла / Ежа / Слономоську. Два дрессировщика, обсуждая условность и в то же время необходимость поводка, приходят к тому, что придется «водить его <…> вплоть до самого некуда» [1: 204]. Ведомый по незнакомым дорогам Петропа-вел после прибытия в «НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТИК» предполагает, что «водить по-настоящему его будут уже там» [1: 205]. Что до зевак, «зеваки-то кое-какие попадались, правда, не толпы зевак и не на улицах , а так… отдельные и в чистом поле» [1: 215].
От «андерсоновского»персонажа, Ой-ли-Лукой-ли, Петропавел узнает о том, что ему предстоит совершить богатырский подвиг – победить Муравья-разбойника. Муравей подменяет Соловья, СолоВий же – болотное чудовище – живет на ГИПЕРБОЛОТЕ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА. Портрет Муравья-разбойника соответствует его двойному имени: «Народное воображение рисует его могучим и громадным о трехстах двенадцати головах и восьми шеях, с тремя когтистыми лапами, покрытыми чешуей речных рыб. Его грудь спрятана под панцирем пятисот восьмидесяти семи черепах, левое ухо обтянуто кожей бронтозавра, а правое…» [1: 21]. В то же время «пописк богатырский» (вместо посвиста богатырского) соотносим с другим означаемым: «Ну, черненький, должно быть, невзрачный такой, мелкий… Букашка, одним словом» [1: 22]. Песня Петропавла о Муравье – это текст, переделанный исключительно на основе паронимической аттракции:
Муравей , муравей в шапочке ,
В тюбетеечке жалобно ползешь …
Раз ползешь , два ползешь , три ползешь … [1: 114].
Нарративизация поговорки «В чужом глазу соринку видит, а в своем бревна не замечает» и контаминация цитат определяет развязку этой сюжетной линии. Всё начинается с беседы Петропавла со Стариком-без-Глаза и с вежливой реплики: «У Вас соринка в глазу» [1, с. 116]. Ответная реплика о бревне (« – А у себя в глазу бревна не видишь? – в обычной своей нахальной манере осведомился изнуренный старик» [1, с. 116]) имеет следствием учреждение «Мемориального Музея Бревна, Убивавшего Муравья-разбойника» [1: 117], причем музей на поверку оказывается «Мимо-реальным».
Чтобы пройти обряд инициации до конца, герою остается поцеловать Спящую Уродину – это условие возвращения домой. Однако постоянная игра, смена масок, ролей приводит к тому, что Спящая Уродина – единственная роль, которая Петропавлу досталась. Таким образом, он сам, поцеловав себя, должен проснуться. В финале происходит возвращение Петропавла, которому всё обыденное кажется теперь скучным, туда, где «играют словами» и сущность предметов определяется их именами. Ударная концовка демонстрирует как перестановку элементов означающих, так и своеобразно понятый закон «асимметричного дуализма языкового знака» в той реальности, где герой, «…почувствовав себя Летучим Дитятей, взмыл высоко в небо…» [1: 235].
Список литературы Функция языковой игры в абсурдистском тексте ("Между двух стульев" Е. Клюева)
- Клюев Е. Между двух стульев. М.: "Гаятри", 2008. 240 с.
- Клюев Е. Теория литературы абсурда [электронный ресурс]. Режим доступа: https://royallib.com/book/klyuev_evgeniy/teoriya_literaturi_absurda.html. Дата обра-щения 10.04. 2020. Дата обращения 10.04.2020.
- Кружкова Е.В. Особенности перевода французских прилагательных "beau" и "bon" на русский язык [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rusnauka.com/35 OINBG 2010/Philologia/75874.doc.htm. Дата обращения 10.04.2020.
- Петровский Н.А.Словарь русских личных имен. М.: "Русские словари", "Астрель", 2000. 478 с.
- Семенова Н.В. Цитата // Теория литературы. Т. II. Прозведение. М.: ИМЛМ РАН, 2011. С. 246-251.
- Семенова Н.В., Бабушкина Т.В. "Песня о Соколе" в романе Евгения Клюева "Между двух стульев": к типологии абсурдистских текстов // Новый филологический вестник, 2019. № 1 (48). С. 222-229.
- Фрейд З. Толкование сновидений. Обнинск: Титул,1992. 447 с.
- Шварцкопф Б.С. О некоторых лингвистических проблемах, связанных с цитацией // In: Sign, Language, Culture. The Hague - Paris, 1970. P. 658-673.