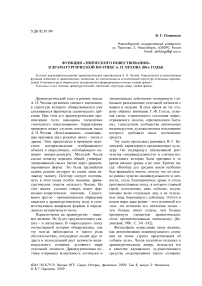Функция «эпического повествования» в драматургической поэтике А. П. Чехова (80-е годы)
Автор: Одиноков Виктор Георгиевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются ранние драматургические произведения А. П. Чехова. Определяется художественная функция эпических и драматических элементов, их соотнесенность в поэтической структуре отдельных произведений. Отмечается роль творческого эксперимента в формировании поэтики «новой драмы».
Поэтика, драматургический, эпический, структура, жанр, "новая драма"
Короткий адрес: https://sciup.org/14737048
IDR: 14737048 | УДК: 82.01/09
Текст научной статьи Функция «эпического повествования» в драматургической поэтике А. П. Чехова (80-е годы)
Драматургический текст в ранних пьесах А. П. Чехова органично связан с эпическим, в структуре которого обнаруживаются уже сложившиеся фрагменты сценического действия. При этом его драматургические произведения густо насыщены элементами «эпического повествования». Характерным примером может служить юношеская пьеса А. П. Чехова «Безотцовщина», совмещающая признаки двух родовых начал - эпоса и драмы. Эпос предполагал в принципе целостное воспроизведение изображаемого объекта и сверхличную, «обобщенную» позицию автора-демиурга. Молодой Чехов сделал попытку передать общий, универсализированный смысл бытия через драматизированную форму. Это была труднейшая задача, решить которую по силам лишь великому таланту. Поэтому следует подчеркнуть в этом плане особое значение драматургических опытов молодого Чехова. Но этот аспект, условно говоря, имеет формально-теоретическое значение. Существенно другое – принципиальное обращение писателя к драматургическому роду и соответствующим жанровым формам в определенную историческую эпоху.
Переключение на драматургию - знаковое явление. Не будет преувеличением сказать – и эпохальное. В «переходную» эпоху отечественной истории обнаружились, как это всегда наблюдается в такого рода обстоятельствах, отчуждение людей друг от друга и колоссальный рост ценности индивидуального сознания, духовного мира отдельной личности. Драматургическая поэтика открывала возможность логически и эмоционально действенно подчеркнуть глобальное разъединение отдельной личности с миром и людьми. В свое время на эту сторону обратил внимание Г.-Ф. Гегель, отмечая смену «героического состояния мира», отражаемого эпосом, «прозаическим бытием», господством сообщества автономных индивидуумов, художественное воплощение которого требовало иных поэтических средств.
Эту идею продолжал развивать В. Г. Белинский, характеризуя средневековую культуру. Он подчеркнул интенсивный рост чувства «индивидуальности» и «личности», реализовать которые была призвана в то время именно драма, а не эпос. Критик писал: «Вообще дух средних веков особенно был враждебен эпопее, потому что он сильно развил чувство индивидуальности и личности, столь благоприятные драме и столь противоположные эпосу, в котором главный герой, естественно, само событие, подчиняющее волю отдельных лиц, а не отдельные лица, борющиеся с событием. Оттого в новом мире даже роман – этот истинный его эпос, эта истинная его эпическая поэма – тем больше имеет успеха, чем больше проникнута элементом драматическим, столь противоположным эпическому» [Белинский, 1981. С. 341–342].
Философски осмысливая такое явление, как автономизация индивидуального сознания на почве утраты представления об «общем деле», Чехов вплотную подошел к драматургическому жанру, используя его в качестве адекватного художественного средства моделирования такого сознания.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Том 8, выпуск 2: Филология © В. Г. Одинокое, 2009
Писатель в данном случае целенаправленно преодолевал эпическую манеру повествования, отказываясь при этом от преимуществ авторской монологизированной позиции. Но следует обратить внимание на то, что Чехов нигде не снижал уровня философско-этической трактовки действительности. Он, как и Ф. М. Достоевский в своем «полифоническом» романе, нашел способы сохранить высокую авторскую «планку», утверждая при этом авторитет и значимость отдельной, автономной личности, ее ценностный потенциал. Показателен в этом плане его творческий эксперимент переделки текстов рассказов в драматические произведения.
Генетическая связь драматургии А. П. Чехова с эпическими жанрами четко просматривается в его ранних драматургических опытах («На большой дороге», «Лебединая песня»), которые представляют собой сценические переработки рассказов «Осенью» и «Калхас». Они наглядно демонстрируют поэтическую «технику» трансформации повествовательного текста, его превращение в драматургический.
Рассказ «Осенью» представляет собой «путевой» очерк, в котором фигурируют персонажи, укрывшиеся от непогоды в придорожном кабаке. Повествовательный стиль в рассказе открывал автору возможность рассказать не просто о судьбах отдельных людей, но и создать эпическую картину русской жизни на перекрестке человеческих судеб. В этом аспекте доминирует картина российской осени: «Настал рассвет, но ничего не изменилось. Все также лил дождь, «холод становился сильней и сильней...» И вот последняя авторская реплика: «Весна, где ты?» В пьесе она, естественно, не сохранилась. Чехов сделал попытку найти эквивалент такого рода чувству ожидания «просветления». Он свел все «типическое» в одном характере и добавил еще одного персонажа, который внес драматическую ноту в финал пьесы. Но этого «общего» Чехову явно не хватало для создания хоть какой-то перспективы. Необходимость показать не просто осень, а «большую дорогу» жизни, привело к созданию дополнительного текста. Таким текстом явился рассказ «На пути». Автор вернулся к повествовательной форме, так как ему нужно было сформулировать монологизированное, обобщенно-философское мнение по поводу затронутой темы. Суть его состояла в том, что спасение человека и смысл его существования заключаются в активной деятельности во благо «всех», что неотделимо от религиозной веры, которая стимулирует и освящает эту деятельность.
Чехов специально подчеркнул, что судьбоносная встреча «на пути» героя и героини произошла в день Рождества Христова. В авторском изложении этот эпизод предстает в следующем виде: «Печь и лампада уже потухли. В раскрытую настежь дверь видна была большая трактирная комната с прилавком и столами. Какой-то человек, с тупым цыганским лицом, с удивленными глазами, стоял посреди комнаты на луже растаявшего снега и держал на палке большую красную звезду. Его окружала толпа мальчишек, неподвижных, как статуи, и облепленных снегом. Свет звезды, проходя сквозь красную бумагу, румянил их мокрые лица».
Как видим, здесь нет сентиментальной благостности, свойственной описанию подобной темы, а есть суровая правда реальной действительности. Единственно «незамутненным» символом Божественного света выступает звезда, возвещавшая рождение младенца Христа. Этот образ сыграет свою роль в финале рассказа, когда герой провожает свою нечаянно встреченную очарованную и очаровавшую его спутницу, исчезающую в мокрой пелене снега. Он, как и дети, стоит облепленный снегом и ищет духовным взором ту звезду, которая знаменовала приход в мир Христа-Спасителя.
В результате творческого поиска писателя возникла своеобразная эпико-драматическая трилогия, в целостной структуре которой интегрируются ранее указанные жанровые признаки. Рассказ «Осень» рождает драму «На большой дороге», концептуально завершенную опять-таки рассказом -«На пути», к заглавию которого правомерно добавить «На большом пути жизни».
В дальнейшем такая структура подачи материала закрепляется и может быть охарактеризована как поэтическая стратегия Чехова. Переделывая рассказ «Калхас» в драматическую сцену, писатель пытается найти синтез эпического и драматического начал в одном емком драматургическом тексте. Исполнитель роли Калхаса в оперетте Жака Оффенбаха «Прекрасная Елена» актер Светловидов является, по сути, монологистом, речь которого обращена к суфле- ру, фигуре, незначительной в контексте пьесы. Светловидов со своим пессимистическим индивидуальным восприятием и трактовкой событий окружающего мира «закрывает» своей фигурой все сценическое пространство. И его личная судьба воспринимается как «жизнь человека», что в историко-типологическом плане ассоциируется с известным произведением Л. Андреева. А. Белый, характеризуя пьесу Л. Андреева «Жизнь человека», назвал аналогичное психологическое состояние «рыдающим отчаянием». Чехов воспроизводит именно такую ситуацию, но и в ней он упорно ищет выхода.
Если жизнь отдельного человека закончена, то жизнь человечества продолжается. Рассказ «одного» завершается, рассказ о «другом» начинается. Поэтический прием подачи этого второго своеобразного «рассказа» обнаруживает себя в цитировании сценически воплощаемых актером-протагонистом классических образцов мировой драматургии: «Бориса Годунова», «Короля Лира», «Гамлета», «Отелло». В финале он цитирует слова Чацкого, который собирается «искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок» Все это должно обрести форму той «Лебединой песни», которая упомянута в заглавии пьесы, и расчистить эмоциональный горизонт.
Чехов определил вектор движения образа очень точно, при этом без авторских пояснений - от стандартизованного опереточного персонажа к талантливому лицедею, осознавшему себя как самоценную личность и пытающемуся доказать это перевоплощением в лицо без маски способом сценической идентификации с образами мировой драматургии. Таким способом субъектный план, связанный с отдельной личностью, в драматургической системе пьесы через опосредованную авторскую несобственно-прямую речь вписывается в общую эпическую картину, тональность которой определяется формулой «Мир и Человек».
Творческая устремленность к созданию подобного рода драматургических произведений объясняется, как уже сказано, общим процессом жанрового развития в «переходную эпоху», когда на первый план выступает тип самоутверждающейся личности и «индивидуальное» закономерно становится решающим фактором в структуре социума. Характер в пьесах Чехова начинает домини- ровать в проблемном и художественном планах над событийным началом, ибо ареной главных событий становится внутренний мир человека, психологию которого нужно обнажить перед присутствующим зрителем.
Философски преодолевая раздробленность общественного и индивидуального сознания, Чехов создает экспериментальную форму «пьесы-монолога», когда герой обнаруживает свое собственное «общее» (эпическое) начало через сугубо «частное» (драматическое) его проявление. Монолог героя в данном случае структурируется авторским сознанием, которое проявляется в особой форме «несобственно-прямой речи». Автор в данном случае сознательно отодвигается, условно говоря, в «подтекст». Но его «лицо» все-таки можно выявить через систему поэтических «сопряжений». Не случайно известный современный режиссер Петр Фоменко в постановке одной из чеховских пьес посадил на сцене некоего персонажа, «очень похожего на Антона Павловича», как об этом сообщалось в средствах массовой информации. При этом Чехов так организует театральное пространство, что исчезает понятие «рампы» и зритель становится в игровой ситуации соучастником происходящего «рядом» действа, «заражаясь» непосредственно мыслями и чувствами сценического персонажа, который «оживляется» в образе «реального» человека - актера исполнителя. Такая концепция художественного построения пьесы реализуется и в одноактном драматургическом фрагменте «О вреде табака».
Важно обратить внимание на повествовательный элемент в пьесе, который является органичным в данном случае, так как весь текст - это лекция, обращенная в условный зал к предполагаемому зрителю, т. е. слушателю. Чехов этим дает возможность герою в импровизированном монологе «описать» то, что ему представляется необходимым и рожденным в процессе свободного полета мысли. Формулируя заглавие, Чехов предполагает внушить «реципиенту» (зрителю или читателю) идею, что можно в качестве объекта взять любой предмет или тему, независимо от ее бытового масштаба и значения, и создать при соблюдении определенных условий подлинное художественное произведение. В такой интерпретации тема о «вреде табака» в ее двойном прочтении мало чем отличается от «убитой чайки» или срубленных деревьев в каком-то «вишневом саду». Ассоциативно с «табачной темой» герой пьесы Нюхин соединяет «вечную» тему «о злых женах». Заканчивает он свою лекцию пафосной латинской фразой, подчеркивающей общечеловеческое значение его исповедального монолога – «Dixi et animam levavi!» (Сказал и душу свою облегчил).
Обратим внимание на то, что, как и в «Лебединой песне», Чехов реализует одну важную стратегическую идею соединения «повествовательного» текста монолога (по сути, драматического текста) с сознанием реального присутствующего на спектакле зрителя. Заметим при этом, что отчужденный от зрителя рассказ-монолог о «вреде табака» психологически воспринимается как отстраненный «словесный объект». Чтобы этот объект приблизить, а затем «взорвать» и ранить осколками душу и разум зрителя, Чехов придумал особую организацию сценического пространства. В чем ее суть?
Заметим, что оба героя обращаются в условный зал. Проблема сценического воплощения этой ситуации заключается в том, в какой зал должны быть направлены взоры героев, стоящих на реальной сценической площадке. Здравый смысл подсказывает, что, видимо, следует адресовать текст реальной публике. Но герой находится в другом, «своем» зале. Если его представить на сцене, то нужно изобразить это другое помещение и другую рампу, что Чехов сделал в «Чайке». В данном случае он не стал в одноактных водевилях «сооружать» громоздкие декорации и заполнять выдуманные театральные залы статистами.
В первой пьесе подобного рода зал вообще пустой, а в бытовом плане он заполнен реальными зрителями. Автор в этом случае прибегает к такой характерной условности: герой «не видит» реального зала. А зритель, наоборот, «видит» актера, который об этом не догадывается, он слышит его исповедь, которая обращена не к публике, а к близкому по профессии человеку – суфлеру. Создается условная конвенция: зритель подсматривает и подслушивает то, что происходит «ночью» на пустой сцене. Он наблюдает как бы реальную жизнь, а не театральное представление. А это условие предполагает не только интеллектуальный и духовный контакт, но и контакт интимный, душевный. Со второй пьесой дело обстоит еще проще: реальный зритель замещает собой условных слушателей лекции, видя при этом живого страдающего человека со всеми его достоинствами и слабостями и заражаясь его мыслями и чувствами. Такая позиция не вызывает каких-либо вопросов, поскольку масса людей, слушающая лекцию, не определяется в тексте четко какими-либо социально-общественными или культурно-историческими параметрами и может быть вполне правомерно идентифицирована с реальной зрительской аудиторией.
Формируя принципы «новой драмы» и используя чисто театральные, игровые возможности, Чехов подошел вплотную к утверждению такой драматургической структуры, которая в современной телевизионной практике определяется термином «реалити-шоу». Знаменательно в этом случае то, что писатель, обгоняя время, установил своеобразный полемический диалог с искусством нашей современности. Он нас убеждает в том, что театр не может быть заменен новейшими средствами информации, ибо телевизионное «реалити-шоу» – это все-таки «картинка», отчужденный «объект», а театр живого актера – это заражающая иллюзия жизни, во всяком случае, ее модель в натуральную величину. А как сделать сценическую жизнь предельно реальной и заставить зрителя почувствовать себя частью общего, а общее сделать органической частью личности – это нашим современникам подсказывает весь поэтический арсенал чеховских драматургических произведений (см.: [Оди-ноков, 2006]).
Характерным образцом чеховского влияния на современное сценическое искусство является, например, творческая программа экспериментального Санкт-Петербургского «Классического театра», который отказался «от традиционной сцены» и максимально приблизил актера к зрителю, обеспечивая «тот крупный план, при котором достигается эффект соучастия, сопереживания актера и зрителя» (Так сформулировано в творческой декларации). Чехов в свое время, как уже сказано, разработал именно такую структуру, которая обращена к «городу и миру», к тому, что происходит «здесь» и одновременно «там».
Автор попытался в своих пьесах показать не только индивидуальных носителей той или иной руководящей мысли, не только столкновение отдельных личностей, но выстроить диалог, условно говоря, неперсони-фицированных идей, которые носились в воздухе эпохи и формировали ее «лик». В этом случае сценическая личность требовала «поддержки», которая реализовалась в стилевом плане. Для этого Чехов и внедрял в драматический текст в различных формах стихию повествовательной речи. Кроме того, он окружал диалогическую речь пояснениями и описаниями, которые нельзя было выразить театральными средствами, привычными для зрителя. Сыграть в пределах традиционного театра буквально то, что написал Чехов, было почти невозможно. Не случайно, очевидно, пьеса Чехова «Чайка» не имела успеха в Александринском театре в Петербурге. И только уникальный театр в лице «Московского художественного» спас пьесу и всю драматургию Чехова, открыв для себя и зрителей особый закон, который можно определить как закон «сценического повествования», характерный для «новой драмы» (подробнее см.: [Рев, 1995]). А в этом и состояла главная специфика художественной структуры всех чеховских драматургических созданий.