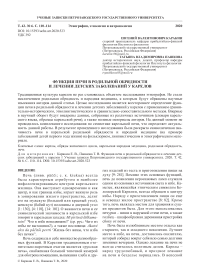Функция печи в родильной обрядности и лечении детских заболеваний у карелов
Автор: Каракин Евгений Валентинович, Пашкова Татьяна Владимировна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Этнография, этнология и антропология
Статья в выпуске: 6 т.42, 2020 года.
Бесплатный доступ
Традиционная культура карелов не раз становилась объектом исследования этнографов. Не стали исключением родильная обрядность и народная медицина, к которым будут обращены научные изыскания авторов данной статьи. Целью исследования является всестороннее определение функции печи в родильной обрядности и лечении детских заболеваний у карелов с применением сравнительно-исторического, этнолингвистического и сравнительно-сопоставительного методов. Впервые в научный оборот будут внедрены данные, собранные из различных источников (словари карельского языка, образцы карельской речи), а также полевые материалы авторов. На данный момент не проводилось комплексного исследования по семиотике карельской печи, что определяет актуальность данной работы. В результате проведенного исследования была раскрыта символическая значимость печи в карельской родильной обрядности и народной медицине (на примере заболеваний детей первого года жизни) на фольклорном, лингвистическом и этнографическом материале.
Карелы, обряды жизненного цикла, карельская народная медицина, родильная обрядность, печь
Короткий адрес: https://sciup.org/147227287
IDR: 147227287 | УДК: 392 | DOI: 10.15393/uchz.art.2020.523
Текст научной статьи Функция печи в родильной обрядности и лечении детских заболеваний у карелов
Печь (ливв. päčči; с. к. kiukua) всегда была характерным атрибутом и наиболее мифологизированным центром карельского жилища. Она выступает одновременно и как центр, и как граница избы, играет важную роль в зонировании жилого пространства, делит его на мужскую (большой или красный угол), женскую (бабий кут) половины и дверной угол [1: 130], [4: 118], [14: 101]. О важности печи и ее символической значимости в карельской избе говорит и карельская загадка: Mi pirtissä liikkuma-toin? ‘Что в избе неподвижно?’ (ср. рус.: Чего из избы не вытащишь?), а также пословица: Akatoi elos da päčitöi pertti ‘Жизнь без жены, что изба без печки’1.
Печь содержала в себе множество разнообразных функций. В Карелии традиционным отопительно-варочным очагом является «русская печь», снабженная большой топочной камерой для обогрева помещения, выпекания хлеба и дру- гих изделий из теста и приготовления пищи на духу [9: 281]. Помимо этих основных функций, печь до появления керосиновых ламп служила одним из основных источников света в избе. Камелек, являющийся этническим символом Беломорской Карелии, всегда обращен к центру избы. Наряду с приготовлением пищи он еще и освещал жилое пространство [8: 82]. Кроме того, печь являлась местом для хранения и сушки предметов быта. Для этого использовались печурки – ниши в наружной стене печи, а также голбец – шкафообразная деревянная пристройка сбоку от печи.
Печь была излюбленным местом отдыха как старшего, так и младшего поколения. Лучшее место в избе, на печи, доставалось сказителю, который собирал вокруг себя всю семью долгими зимними вечерами. Однако лежание на печи не всегда считалось полезным делом. Карелы – народ трудолюбивый, и праздное лежание на печи и безделье порицались. В вепсской
и карельской крестьянской среде считалось, что причиной недомогания, весенней усталости, именуемой также веснухой (вепсск. vesnuh; ливв. keväččy; с. к. kevätti), могло стать частое лежание на печи людей активного возраста: ливв. päčil muates keväččy voit tartuo ‘к лежащему на печи может пристать весенняя усталость’ [2: 163], [10: 136]. Некоторые фразеологические единицы с компонентом печь связаны с бездельем: с. к. kiukuata painau (букв. ‘печь давит’), с. к. kiukua-ta paimentau (букв. ‘печь пасет’), с. к. kiukuan-korvalla L’evua kostittau (букв. ‘на лежанке Леву угощает’) [16: 81]. Однако издавна у печи отмечались еще две функции: в ней мылись и в ней (или около нее) лечились. Бесспорно, наличие парной бани у карелов Карелии является одним из характерных этнических признаков их традиционной культуры, но появление бань, например, у тихвинских карелов (Бокситогорский район Ленинградской области) является поздним явлением и относится к началу – первой трети XX века. До этого бытовал обычай мыться и париться в печах2. В Тверской Карелии это объясняется тем, что строительство бань было затратным делом, строительный материал нужно было покупать, а он был дорогой. В Беломорской Карелии основной причиной помывки прямо в печи были суровые погодные условия в зимний период. Процесс мытья карелов в печи описывается финским этнографом П. Виртаранта [22: 80].
Издревле карелы, как и другие народы, относились с почитанием к огню как жизненному началу, символу жизни, наделяли огонь апотро-пейными (защитными), очистительными и продуцирующими функциями. Печь, будучи местом, где хранили и поддерживали огонь, перенимала его свойства. Наряду с самой печью эти свойства приобретала и вся очажная утварь и продукты горения: зола, уголь, сажа, которые использовались в различных обрядах, включая родильные и лечебные.
***
По мнению исследователя А. Геннепа, человек в своей жизни проходит некие этапы, одним из которых является рождение. Каждый из этапов сопровождается церемониями, целью которых является обеспечение перехода из одного состояния в другое [3: 9]. Это можно проследить и на примере карельской родильной обрядности, в которой одна из ведущих функций была отведена печи, древнейшему языческому центру, символизирующему женское лоно.
Сперва следует обратиться к фразеологизмам, указывающим на то, что печь в мировоззрении карелов символизирует женское лоно: ливв.
päčči on murennu ‘ребенок родился’ (букв. ‘печь развалилась’) [17: 592], с. к. korjata kiukuanšuuta ‘совершать первый акт соития после родов’ (букв. ‘ремонтировать устье печи’) (ПМА).
Печь и печная утварь наделялись продуцирующей семантикой. Считалось, что, если бездетная пара хочет завести ребенка, надо натопить печь и переночевать на ней [21: 17]. После венчания в доме жениха молодых сажали на печь, поили ягодным соком, чтобы дети были румяные, или молоком, чтобы были белолицые3. Чтобы забеременеть, в тайне от мужа под постель клали ухват и кочергу. Хотя карелы для обозначения родов и используют образное выражение с. к. lä-sie tervehtä tautie ‘рожать’ (букв. ʻболеть здоровой болезньюʼ), при трудных родах, как следствии несоблюдения определенных правил поведения во время беременности или сглаза, роженицу спускали в подпол, тем самым обращаясь за помощью к предкам, и открывали дымоходы, что связано с уподобительной магией [12: 26–27].
Если говорить о запретах, связанных с печью, то к ним относится запрет для беременных женщин залезать в печь для обмазки пода глиной. Это рационально объясняется тем, что устье печи достаточно узкое [12: 22]. Также существовало поверье, согласно которому нельзя было поворачиваться спиной к печи во время выпечки, горб вырастет [6: 476]. Ливв. « Älä päčil selgiä kiänä, muiten gurbu selgäh kazvaa ‘Не поворачивайся спиной к печи, иначе горб на спине вырастет’» [18: 415].
У карелов, как и у славянских народов, зафиксирован обряд разбивания дружкой на свадьбе горшка из-под каши о печь, так как верили: сколько черепков, столько и детей будет у моло-дых4. Разбивание посуды содержало элементы апотропеической, продуцирующей магии, являлось подношением семейным духам-покровителям, а также ассоциировалось с дефлорацией и пожеланием счастья новобрачным [11: 190], [15].
Очажную утварь использовали не только для усиления фертильных способностей молодых, а также для плодовитости домашнего скота. Печное помело, принесенное в хлев в зимние святки, обещало хороший приплод овец [23: 580–581]. Головешки, взятые из печи, использовали для изменения масти овец (ПМА).
Согласно карельской поговорке с. к. Šyntyjä ei šijua valiče ‘Ребенок не выбирает место для рождения’, рождается там, где случится. Тем не менее традиционно для родов карелки выбирали наиболее уединенные места, хлев и баню, боясь сглаза и его пагубного влияния на роды. В избе запрещали рожать, считая роженицу «нечистой»,
«поганой» (с. к. pakana ). Женщины тщательно скрывали свою беременность, боясь сглаза и порчи. По этой причине и по незнанию точного срока родов карелки зачастую рожали в поле, в лодке на рыбалке, в лесу и в дороге (ПМА). Однако в зимние морозы, когда роженица не могла разродиться вне дома, в редких случаях, нарушая старый обычай, выбирали для этих целей теплую печь в избе [5: 35].
Если люба была невестка, то свекровь заранее готовила для нее место на голбце, а для ребенка – на краю лежанки [23: 162]. При первом появлении роженицы в избе короб с ребенком клали на печь или ставили перед жаротком, отсюда и древняя загадка Mi on heikko hinkalolla ? ‘Что слабое на припечке?’ (Ребенок) [21: 34]. Таким способом ребенка приобщали к домашнему очагу. В этом случае печь рассматривается как центр переработки «природного» в «культурное», «чужого» в «свое», тем самым и младенец становится «своим», происходит его приобщение к роду [1: 117]. Это объясняется и тем, что в этот период у ребенка еще нет своего духа-покровителя, и он попадает под покровительство духа домашнего очага [21: 34]. Согласно верованиям, свой дух-покровитель появлялся у ребенка лишь с первым зубом [13: 265]. По этой же причине «на зубок» новорожденному приносят в подарок помимо прочего и щуку – рыбу-охранительницу [7: 209]. Печь и подпол в верованиях карелов тесно связаны с культом предков. Объясняется это обрядом захоронения прародительницы рода, которую когда-то было принято хоронить в подполе жилища. В дальнейшем она становилась духом-покровителем для своих потомков [12: 27]. Этим объясняется и закапывание пуповины ребенка в подпол избы как обряд породнения [12: 29]. Также в подпол закапывали и послед, завернутый в тряпочку [20: 40].
Короб (с. к. vakka ) является первым из четырех «домов» человека (последующие: колыбель, изба, гроб). В нем он пребывает свои первые шесть недель, по истечении которых его перекладывают в люльку (ливв. kätkyt , с. к. kätyt ), куда в качестве оберега кладут камешек от пода печи [13: 264].
Известно, что как русские, так и карелы использовали печь для лечения болезней. Раньше карелы говорили: с. к. Kiukua lämmittäy, kiukua šyöttäy ta kiukua liäkiččöy ‘Печь греет, печь кормит и печь лечит’. Целительной силой обладал огонь, а также другие предметы, имеющие отношение к печи: камни, зола, дым, угли, кочерга. Они же являлись оберегами. Кроме того, еда, изготовленная в печи, использовалась в лечеб- ных обрядах. Печная сажа, как элемент горения, применялась карелами в качестве оберега для младенца: при большом скоплении народа или при выходе с ребенком из дома ему мазали лоб сажей или рисовали крест на лбу. По народным представлениям, это отвлекало дурной глаз от самого ребенка [24: 36]. Для того чтобы сглаз или другое зло не вошли в дом, где есть новорожденный, в д. Сяргилахта над входом в сени устанавливали печные щипцы для углей. Этот способ основывался на вере в очищающую магию огня и связанных с ним предметов.
Карелы Беломорской Карелии для лечения yönitettäjä (‘ночница’) искали сон ребенка в печи, перебирая кочергой угли. У перебирающего спрашивали: Mitä šieltä ečit ? ‘Что ты ищешь там?’ Он отвечал: Unta ečin lapšella! ‘Сон ищу ребенку!’ Используя кочергу, искали сон и под скамейкой. Это делала сама мать ребенка. На задаваемые вопросы во время ритуального действия надо было отвечать со злостью (д. Куйваярви) [23: 152–154].
Обратимся к тем болезням, которые лечились в самой печи. В карельской народной медицине в основе лечения некоторых заболеваний лежали древние воззрения, в соответствии с которыми болезнь воспринималась как некое живое существо. Главный принцип лечения таких болезней заключался в изгнании или удалении недуга из тела больного5. Для этого практиковались различные приемы и способы, среди которых выделяется «испечение» болезни, которое проводилось в печи. При лечении рахита, если ни один из магических ритуалов не давал положительного результата, прибегали к крайнему: ребенка заворачивали в ржаное тесто и сажали в горячую печь (Петрозаводский, Паданский и Олонецкий уезды)6.
Держанские карелы (д. Семеновское, Новое) для лечения детской молочницы смешивали в миске слегка теплую воду и золу, ставили для выпаривания в горячую печь. После остужали и смазывали ротовую полость младенца. Это средство считалось эффективным с древних времен [19: 227].
ВЫВОДЫ
Анализ этнографического, фразеологического и фольклорного материала показывает, что печь, будучи сакральным и языческим центром карельской избы, играет важнейшую роль в обрядах жизненного цикла человека. Карелы с почитанием относились к огню, наделяли его защитными, очистительными и продуцирующими функциями. Печь перенимала эти свойства, передавая их всей очажной утвари и продуктам горения, которые использовались в различных обрядах, включая родильные и лечебные. Следует отметить, что на данный момент символика печи в обрядовой практике карелов недостаточно изучена и заслуживает более тщательного и подробного рассмотрения.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ вепсс. – вепсский язык ливв. – ливвиковское наречие карельского языка
ПМА – полевой материал автора
-
с. к. – собственно карельское наречие карельского языка
FUNCTION OF STOVE IN CHILDBIRTH RITUALS
AND CHILDREN’S DISEASES TREATMENT PRACTICES OF THE KARELIANS
C i t e th i s arti c l e a s : Karakin Ye. V., Pashkova T. V. Function of stove in childbirth rituals and children’s diseases treatment practices of the Karelians. Proceedings of Petrozavodsk State University . 2020. Vol. 42. No 6. P. 110– 114. DOI: 10.15393/uchz.art.2020.523
Список литературы Функция печи в родильной обрядности и лечении детских заболеваний у карелов
- Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л.: Наука, 1983. 191 с.
- Винокурова И. Ю. Огонь в мифологии вепсов // Вепсы: История, культура и межэтнические контакты: Сб. науч. тр. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1999. С. 148-167.
- Геннеп ван А. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. М.: Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 1999. 198 с.
- Гришина И. Е., Орфинский В. П. Жилище // Народы Карелии. Петрозаводск: Периодика, 2019. С. 114-122.
- Духовная культура сегозерских карел конца XIX - начала ХХ в. / Изд. подгот. У. С. Конкка, А. П. Конкка. Л.: Наука, 1980. 216 с.