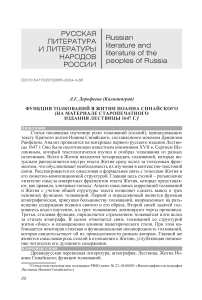Функция толкований в житии Иоанна Синайского (на материале старопечатного издания Лествицы 1647 г)
Автор: Дорофеева Л.Г.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 4 (71), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению роли толкований (схолий), принадлежащих тексту Краткого жития Иоанна Синайского, составленного монахом Даниилом Раифским. Анализ проводится на материале первого русского издания Лествицы 1647 г. Оно было подготовлено известным книжником XVII в. Сергием Шелониным, который текстологически изучил и отобрал толкования из разных источников. Всего в Житии находится четырнадцать толкований, которые визуально располагаются внутри текста Жития сразу вслед за толкуемым фрагментом, что обусловливает необходимость их изучения в контекстно-текстовой связи. Рассматривается их смысловая и формальная связь с топосами Жития и его сюжетно-композиционной структурой. Главная цель схолий - разъяснение читателю смысла конкретных фрагментов текста Жития, которые представляют, как правило, ключевые топосы. Анализ смысловых корреляций толкований и Жития с учетом общей структуры текста позволяет сделать вывод о трех основных функциях толкований. Первой и определяющей является функция агиографическая, присущая большинству толкований, направленных на разъяснение содержания подвига святого и его образа. Второй своей задачей толкователь видел поучение, и в трех толкованиях доминируют черты проповеди. Третья, стилевая функция, определяется стремлением толкователя идти вслед за стилем агиографа. В целом отмечается связь толкований со структурой жития «биос» и одновременно влияние панегирического стиля. При этом наблюдается некоторая стилевая и функциональная неоднородность толкований, которая свидетельствует об их принадлежности разным авторам. Главной же является смысловая роль схолий в отношении к Житию, углубляющая понимание читателем его духовного содержания.
Древнерусская переводная литература, агиография, лествица, житие иоанна синайского, функция толкований
Короткий адрес: https://sciup.org/149147210
IDR: 149147210 | DOI: 10.54770/20729316-2024-4-88
Текст научной статьи Функция толкований в житии Иоанна Синайского (на материале старопечатного издания Лествицы 1647 г)
Old Russian translated literature; hagiography; the Ladder; Life of John of Sinai; the function of interpretations.
Житие прп. Иоанна Лествичника относится к наиболее распространенным и известным произведениям переводной литературы, если судить по выявленному учеными количеству славянских рукописей книги «Лествица» (см. об этом: [Николаев 1993; Попова 2011, 5; Попова 2014, 83]), к которой это Житие и принадлежит. При этом оно остается малоизученным в литературоведческом плане, что и невозможно в отношении к спискам, место которых «в истории памятника не определено в результате подробного его текстологического изучения» [Минеева 1999, 5]. Это объясняет наш выбор именно печатных изданий Лествицы для анализа произведения. Ранее мы обращались к анализу топики Краткого жития Иоанна Синайского в связи с содержанием образа святого и особенностями жанровой структуры на материале двух известных русских переводов Лествицы: старопечатного издания 1647 г. и Оптинского перевода издания 1862 г. (см.: [Дорофеева 2022; 2023]). Данная статья продолжает этот анализ.
1The article was prepared with the support of the Russian Academy of Sciences (grant No. 22-1800005 “Iconography and hagiography of the Ladder of John of Sinai”).
Существенным для понимания смысла Краткого жития Иоанна Синайского, помещенного в старопечатное издание Лествицы 1647 г. (далее Житие – Л.Д. ), является его прочтение в контексте толкований (или схолий), историю включения которых в данный текст раскрывает в своем исследовании творчества Сергия Шелонина О.С. Сапожникова (см.: [Сапожникова 2010, 283–299, 307–309]). Проблему изучения толкований к тексту Лествицы обозначила Т.Г. Попова, опубликовав текст всех четырнадцати толкований к Житию Иоанна Лествичника по тексту первого русского издания Лествицы 1647 г. [Попова 2020, 148–163] и указав на то, что подбор толкований и их расположение в тексте осуществил Сергий Шелонин, известный «своей эрудицией и энциклопедическими познаниями как в оригинальной, так и в переводной книжности» [Попова 2020, 149]. Сергий Шелонин провел текстологическую работу, подготовив книгу к изданию, изучив для этого ряд наиболее распространенных и известных к середине XVII в. рукописей творения Иоанна Лествичника. К таковым исследователи относят рукопись Лествицы 1601 г. митрополита Новгородского Исидора, восходящую к рукописи митрополита Киприана и, следовательно, к тексту Лествицы в Великих Минеях Четьих (см. об этом: [Николаев, 1993; Сапожникова 2010, 258–278]).
Не только сам текст Жития, подготовленный Шелониным, является своего рода итоговым для рукописной традиции этого памятника, но и включенные им толкования, которые он также брал из разных рукописных источников, добавляя их по своему усмотрению в текст Жития. И, что для нас важно, разместил он толкования не на полях, а непосредственно сразу за толкуемым отрывком. Такое расположение можно объяснить технической необходимостью – удобством чтения, или размещением на полях маргиналий, занявших довольно много места. Но нельзя исключить и иную мотивацию издателя – не только пояснения смысла, или комментария к тексту, что является главной целью толкований (схолий – греч. σχόλιον – толкование), но расширения и углубления содержания Жития. На наш взгляд, толкования в данном варианте их расположения, могут и должны выполнять собственно агиографическую функцию – описания образа святого.
Рассмотрим данный текст в смысловой связи толкований с житийным повествованием, помня о том, что жанр этого Жития соединяет в себе черты жития «Βίος», характерные именно для типа монашеских житий, определяемого Т.Р. Руди как imitatio angeli (см.: [Руди 2006, 431–500]); и панегирика [Дионисий (Шлёнов), Кордочкин 2011, 404] со свойственным ему риторическим стилем.
Проследим эту связь на уровнях сюжетном (событийной канвы в соответствии с типом жития «Βίος»), композиции, основанной на топосах (житийной «схемы») и стиля , который в Житии является панегирическим.
Мы цитируем толкования, размещенные Сергием Шелониным в Житии Иоанна Лествичника, в соотнесенности с топосами, к которым они относятся, и в общем смысловом контексте Жития. Житийные цитаты приводятся по материалам, подготовленным Т.Г. Поповой: [Житие… 2024]) с привлечением русского перевода Оптиной Пустыни 1862 г. [Краткое описание жития… 2006].
Всего в тексте Жития находятся четырнадцать толкований, которые мы приводим по публикации Т.Г. Поповой [Попова 2020, 148–163]. Наш перевод помещается в скобках рядом с толкованием (выражаю искреннюю благодарность Ю.Б. Камчатновой за помощь, оказанную при переводе толкований на русский язык).
Первое толкование связано с топосом рождения и воспитания святого, который относится к сюжетно-композиционным и обязателен для жития «Βίος». В Кратком житии прп. Иоанна он только обозначен Даниилом Раифским, поскольку говорит об отсутствии сведений, но при этом содержит необходимые положительные житийные коннотации – благочестия и «достопамятности» как града (места рождения), так и родителей (в слове «воспитывался»): «Еже ^бщ кто приживыи доблАго сегш и бжественаго, и воспитавыи прежде постнагш страдалнагш егш житА, да сице реку достоиныи слышанТА град земныи, S^лw ухищренн4 и испытанна пов^дати не мог^» [Житие... 2024] («Не могу сказать с достоверной точностью, в каком достопамятном граде родился и воспитывался сей великий муж до исшествия своего на подвиг брани» [Краткое описание жития… 2006, 5]).
Толкование к топосу рождения, включенное Шелониным, его разворачивает и восполняет. Приведем его полностью: « Зд'Ъ рождение и гра д свАтаго, скрывае т списатель. н4цыи же убо глаголю т ^кш быти ему сыну §енефон-тову, брату же его быти гешрпю арселаиту, именованному w рожденА ар-кадТи. сеи же не прем^ни имене, Тшанн бо нарицааше са. Ксенефонтъ б4 въ цр4 град'Ъ || велми мужь богатъ. д^ти же своа послал учити книгам в вирит [градъ адинскТи], ихже изметну море в ра з личныА страны. и по смотрению БожТю доидоша во iерглим, к единому старцу, и постригоша са [w] негш, не по з навающе себе. дондеже доиде оЦъ ихъ и мати поклонити са во iерслим, и тогда по з наша са» [Попова 2020, 153] ( Перевод: Здесь писатель не сообщает о городе и происхождении святого. Некоторые же говорят, что был он сыном Ксенофонта, брата же его звали Георгий Арселаит, а при рождении тот именовался Аркадий. Иоанн же имени не переменил. Ксенофонт жил в Царьграде и был весьма богат. Детей же своих послал учиться книжной грамоте в Вирит [град афинский], морем же их разметало в разные стороны, но, по смотрению Божию, они дошли до Иерусалима, пришли к одному старцу и постриглись у него, не узнавая друг друга, пока не пришли поклониться в Иерусалим их отец с матерью, и тогда они узнали друг друга).
Толкование это информативно. Очевидно, что здесь толкователь опирается на факты, которые уже должны быть известны читателю – о родителях и брате Иоанна. Вторая его часть, от слов «Ксенефонтъ б4 въ Цр4 град4 || велми мужь богатъ...» [Попова 2020, 153] представляет собой по сути агиографический сюжетный топос, можно сказать, «свернутое» житийное повествование, основанное на чуде: посланные отцом Ксенофонтом братья на учебу в Вирит, афинский город, разлучаются морской стихией, но впоследствии чудесным образом соединяются в Иерусалиме не только друг с другом, но и с родителями. Причем важен акцент автора толкования на первичном моменте «неузнавания» братьями друг друга: мотив, типичный для агиографии (встречающийся, например, в переводных житиях Алексия человека Божия, Евстафия Плакиды). Узнавание происходит при встрече в Святой земле с родителями, пришедшими «поклониться в Иерусалим», что является знаком осуществления Промысла Божия о святых, принявших постриг. Таким образом, это толкование органично агиографическому повествованию, в котором исторические реалии и биографические факты отвечают задаче агиографа – изобразить святого и его путь.
Второе толкование помещается Шелониным в текст Жития в связи с Топосом посмертной жизни в раю: «А иже ин4 им4яи и нетленною пищею пита-яи всечуднаго, не (не) в^д'к никакоже. Есть бо и той ныне в нем отнележе ве-легласныи оучитель славий зд4 н4како вопиет, их же житие на неб^сех есть, насыщаася чюством невещественым ненасытнаго. и невидимаго добротою зря...» [Житие... 2024] («А какой град ныне покоит и нетленною пищею питает сего дивного, это мне известно. Он пребывает ныне в том граде, о котором говорит велегласный Павел, взывая: “наше житие на небесех есть” (Флп. 3: 20); невещественным чувством насыщается он блага, которым невозможно насытиться, и наслаждается невидимою добротою, духовно утешается духовным, получив воздаяния, достойные подвигов, и почесть за труды, не трудно понесенные – тамошнее наследие; и навсегда соединившись с теми, которых “нога ста на правоте” (Пс. 25: 12)» [Краткое описание жития… 2006, 5]).
Толкование к этому отрывку Краткого жития будто продолжает повествование, усиливая мысль о Невидимом граде, соединяясь с нарративом автора Жития словом «ныне» в том же панегирическом стиле: «Нн1 же в немже есть сказует, иже нетленною пищею сегw питаетъ, сиркчь вышнТи iер с лим, мти первородны м , ихже нога ста на правотк, есть бо рече и тои в немъ нн4, w немже славТи. еже есть бж с твныи павел вошетъ. чювство же дховное есть, еже стАжати кому млтву дховную, еже [сказуе т са] брови^^ше, ^коже бо зеницы чювствены х очТю, иже в себк имут свкт чювственыи, бговидкше же оумное есть, разу м естественыи, соединивыи са оуставу естества, иже нарицает са естественыи свкт» . [Попова 2020, 154] ( Перевод: Ныне же он в нем, в граде, который нетленною пищей его питает, то есть в Вышнем Иерусалиме, матери первородным – тем, кто встал на путь правды, и которых, как соловей, воспевает божественный Павел. Чувство духовное есть стяжание духовной молитвы, которое называется боговидением, как зеницы чувственных очей имеют свет чувственный, так боговидение умное (духовное, не чувственное) есть разум естественный, соединившийся с сущностью естества (или с самим естеством), который называется естественным светом).
Обратим внимание не только на визуальную, но смысловую и стилевую связь толкования с текстом Жития. Оно направлено на разъяснение образа-топоса Небесного Иерусалима (Царствия Небесного), благодаря чему расширяется и углубляется характеристика Небесного града через осмысление понятий тленный / нетленный; умный (духовный) / чувственный (естественный). Появляется понятие света , который является естественным , если разум соединяется с естеством. При этом боговидение , сравниваемое с чувственными очами, есть умное зрение, и свет духовный открывается этому зрению благодаря духовной молитве. Толкование здесь проясняет главную оппозицию всего Жития: вещественного / невещественного, телесности / нетелесности и т.п. И тем самым толкователь углубляет понимание читателем того аскетического подвига, о котором пойдет повествование далее.
Еще заметим, что и толкователь в старопечатном издании, и оптинские переводчики Жития «расшифровали» слова Даниила Раифского «велегласныи оучитель славий здѣ нѣкако вопиет» [Житие… 2024], назвав имя Павла, но в оптинском тексте не приводится сравнения с соловьем, которое имплицитно присутствует в эпитете «велегласный». Слово «соловей» есть в толковании, что соединяет его с текстом Жития.
Третье толкование относится к слову «отроковицы» и находится в контексте сюжетного топоса ухода святого в монастырь, отречения от мира, который в данном Кратком житии, отличающемся особой лапидарностью и метафоричностью, содержит в себе и факты биографии (16 лет), и характеристику святого (разумом тысячелетен), и идею монашества как жертвы, принесения себя в жертву «великому Архиерею», т.е. Христу, что венчает мотив отшель- ничества. Здесь главным в житийной цитате является образ «отроковиц»: «И странничеством убо предстателницы разумныхъ нашихъ отроковицъ дерзновение безчестное пресекъ» [Житие... 2024] («И так, отсекши бесчестную дерзость отшельничеством, сей обладательницей наших мысленных отроковиц» [Краткое описание жития… 2006, 6]).
Толкование к этому фрагменту связано с топосом отшельничества: «Разо-умныА отроковицы, дшевнаА [оустамененТА] соуть, еже соуть добродетели, ихже странничество, ^коже двы сохранАти весть, ^kw да невидими бывают, но пребывати в дому wсобне, своим оуставо м затворены. добре оубw рече, пре д стателницы быти странничеству, ^kw добродетеле м сохранение соущу» [Попова 2020, 154]. ( Перевод: Мысленные (духовные) отроковицы суть душевное устроение, то есть добродетели, и странничество (отшельничество) знает, как этих дев (т.е. добродетели) сохранить, чтобы, будучи невидимыми, они пребывали в доме особо, огражденные своими правилами. Хорошо же быть служителями странничеству, потому что оно есть хранение добродетелей).
По смыслу и лексически оно коррелирует с текстом Лествицы, а именно с третьей ступенью «О странничестве, то есть уклонении от мира». Интересно то, что автор данного толкования понимает метафору «мысленные отроковицы» в положительном смысле – как добродетели. Оптинский же перевод (а любой перевод можно рассматривать тоже как толкование) видит в ней противоположное значение – страстей, и оптинские переводчики соотносят со словом отроковицы слова дерзновение и бесчестие, устанавливая связь с третьим стихом 10 степени (ступени) Лествицы, что зафиксировано в сноске к словам «мысленных отроковиц»: «То есть страстей…» [Краткое описание жития… 2006, 6].
Четвертое толкование относится к мотиву Небесной простоты , противопоставленной в Житии внешней мудрости: «А еже чюднее, raKW во wкрSгнеи премудрости нб с неи, грубости уча са, еже преславнеишее. смиренТю бо чюжде есть философское киченТе» [Житие. 2024] («А еще удивительнее то, что, обладая внешней мудростью, он обучался небесной простоте. Дело преславное! Ибо кичливость философии не совмещается со смирением » [Краткое описание жития… 2006, 6]) .
Толкование к этим словам непосредственно обращено к образу святого, к пониманию особенностей его личности в связи с темой знания ложного и истинного, или естественного знания (в оптинском переводе – «внешней мудрости»), т.е. философии – и Божественной мудрости, «небесной простоты», которая достигается только смирением: «ОкругнАА есть прем д рость, еллинскаА внешнАА списанТА. еже есть разумъ и ученТе, и ^же w летнихъ прехождешихъ, и sвез-дозакоши wпаснем, известнw ведыи, егоже ради и wкругнюю премудрость глет. и сТе все философское киченТе, [смиреномудриемъ] истинным победивъ» [Попова 2020, 155] ( Перевод: Естествознание есть эллинская мирская наука, то есть знание сущности (вещей). Доподлинно зная науку о смене времен года, о законах звездного (неба), он излагает знания о вселенной, победив при этом высокомерие философа истинным смиренномудрием).
Отметим отличие, заключающееся в смысловых сдвигах. В тексте Жития главный смысл заключается в том, что противополагаются философия как «естественное» знание, порождающее «кичливость» разума, и обучение небесной простоте, т.е. смирение, открывающее Божественную премудрость. А толкователь, сосредоточиваясь на образе святого, в своем толковании указывает не на это противоположение кичливости ума и смирения, а на органич- ность и целостность личности святого, который, обладая знаниями о Вселенной и излагая их, при этом побеждает высокомерие, что и дарует ему «небесную простоту». Ключевым здесь и является понятие простоты как свойства его личности, выраженном в смирении.
Пятое толкование относится к агиографическому мотиву еды (поста) , который связан с сюжетным топосом «аскетической борьбы» или «аскетических подвигов», сопровождающих жизнь монаха: «ИдАше ^бщ все еже непорочна желает са запов4дашю, мало же sелw. и в с^мъ мню н4какш ве-личанТю рогъ сламлАА премдр4» [Житие... 2024] («Он употреблял все роды пищи, без предосуждения разрешаемые иноческому званию, но вкушал весьма мало, премудро сокрушая и через это, как я думаю, рог кичливости» [Краткое описание жития… 2006, 7]).
Это толкование практически выпадает из контекста Жития, оно представляет собой мини проповедь, обращенную не столько к тексту, к его осмыслению, сколько к читателю или слушателю: «Еже всАкое пре д ставлАемое ^сти, и черпаемое пити, блгодареше бгу есть, ничтоже бо правила разуму w семъ во з бранАють, вса бо добро s^лw. а еже многихъ и сладАщих укланАти са, и ра з судителне w сихъ им4ти и разумна, во з держанТе именует са. [со иноверными общенТА не им^ти]. точТю же w иноверны х подобаетъ щсв^нати са» [Попова 2020, 155] ( Перевод: Если чем угощают, все надо есть, и все, что нальют – пить, это есть благодарение Богу, и никакие правила разумные не возбраняют сего, ибо все есть добро. А если обильной и сладкой пищи уклоняться, разумно рассуждая о том, то это называется воздержание. [С иноверными же общения не следует иметь]. Только иноверных следует избегать).
Главный смысл житийной цитаты заключается в идее аскетической борьбы и с чревоугодием, и с тщеславием, и отсылает читателя к Степени 14: «О любезном для всех и лукавом владыке, чреве»: «Часто тщеславие враждует против объедения; и сии две страсти ссорятся между собою за бедного монаха, как за купленного раба. Объедение понуждает разрешать, а тщеславие внушает показывать свою добродетель; но благоразумный монах избегает той и другой пучины, и умеет пользоваться удобным временем для отражения одной страсти другою» [Лествица 2006, 139]. Толкование же обращено к другой теме – правильного отношения христианина к пище в общении с другими людьми, в том числе с иноверными. И оно отличается и по функции, и по стилю от предыдущих толкований.
Все последующие толкования (с 6-го по 13-е) нацелены на образ святого, на осмысление содержания его подвига и связаны с сюжетным повествованием об аскетических подвигах, при этом обладают своими особенностями.
Так, шестое и девятое толкования, помимо агиографической функции, выполняют еще и сугубо дидактическую роль – проповеди, что проявляется в самом наставническом стиле толкователя, для которого текст Жития становится скорее поводом для проповеди. В шестом толковании звучит призыв к милостыне, которым побеждается сребролюбие (см.: [Попова 2020, 156]), а в девятом – толкователь сосредоточен на разъяснении читателю, что такое тщеславие, и что тщеславящиеся погибают, поскольку слабы и суетны. Причем интересно, как толкователь развивает житийное метафорическое сравнение тщеславия с пиявицей, пьющей кровь, и с пауком, улавливающим в сеть и тоже пьющим кровь. Он разворачивает житийную метафору, вводя параллелизм: как паук раскидывает свое тонкое плетение, так и сеть тщеславия улавливает «слабых разумом», и тем самым делает акцент на понятиях силы и сла- бости: «слабоумных ѹдерживает, крѣпких же в разумѣ, не емлетъ» [Попова 2020, 157].
Восьмое толкование находится в контексте сюжетного топоса лествицы , который является ключевым в Житии, соотносясь со ступенями, представленными в книге «Лествица», и относится к словам: «Ѹморением же пристрастїѧ или ѹбѡ и прочих чювственых, невещественꙋю юзꙋ печали разрѣши» [Житие… 2024] («А сплетение пристрастия и всяких чувственных помыслов разрешил невещественными узами святой печали» [Краткое описание жития… 2006, 7]). Оно интересно тем, что отличается пониманием слова «печаль»: «Оуморенїе же пристрастїѧ се есть. свѧзанїе наричеть, по истинѣ. многоимѣнїе. ꙗко-же бо в мирѣ богатьством свcзанїи, неѹдобь могут разрѣшити сѧ, свѧзани бо сѹть житїѧ сегѡ плѣницами. такѡ и добродѣтелнѣ живѹщїи, богатство имут добродѣтели, свѧзанїе печалованїѧ ѿ себе ѿтрѧсше» [Попова 2020, 156] ( Перевод: Это сказано об избавлении от пристрастия. Он называет это связанностью и сравнивает, поистине, с богатством. Как в миру связанные богатством с трудом могут освободиться от пут таковой жизни, так и добродетельно живущие обладают богатством добродетели, не печалясь ни о чем, что связывало бы их).
Здесь толкователь, внося категорию мира , которой нет в цитате, уточняет для читателя понятие связанности мирским, материальным богатством как несвободу , и обладание богатством невещественным, добродетелями – как освобождение от печали . Как очевидно, смысл, переданный толкователем, расходится с текстом Жития, так как печаль в толковании понимается негативно, она порождена несвободой . В то время как в Житии печаль святая , ее невещественные узы освобождают от пристрастий. Именно этот смысл увидели в данной фразе оптинские переводчики, назвав печаль «святой».
Остальные толкования не выходят за рамки агиографической функции, продолжая тему подвижничества, развивая мотив борьбы со страстями и, главное, напрямую отвечая смыслу того отрывка текста, к которому относится. Так, в сеДьмом толковании осмысливается уныние, которое, во-первых, как и в Житии, называется толкователем смертью, и во-вторых, от которого можно избавиться только памятью о смерти телесной, о чем также говорится и в Житии, и в толковании (см.: [Житие… 2024; Попова, 2020, 156]).
В десятом толковании рассматривается главная страсть – гордыня, называемая и в Житии, и в толковании «восьмой отроковицей». Житие: «Что осмыѧ отроковицы, ѹ доблѧго таинника сего побѣжденїе. что же ли ѹбѡ ѡчищенїе краинее, еже начатъ ѹбѡ послꙋшанїѧ веселеилъ. соверши же нб͡с-наго іер͡слима г͡сдь, пришествїем своимъ пришед» [Житие… 2024] («Что же скажу о той победе, которую сей добрый таинник одержал над осьмою отроковицею. Что скажу о крайнейшем очищении, которое сей Веселеил послушания начал, а Владыка небесного Иерусалима, пришедши, совершил Своим присутствием» [Краткое описание жития… 2006, 7]). Толкователь, не выходя за смысловые границы толкуемого фрагмента житийного текста, сосредоточен на объяснении этой метафоры и введенного агиографом в текст Жития библейского образа Веселеила: «ꙗкоже бо веселеилъ [стѣнь] ѹстрои древнюю терпѣнїем, в неиже помазанїѧ ц͡рем, и пр͡орчествїѧ, и прочаѧ законнаѧ совершаху сѧ. такѡ и сеи с͡тыи д͡шю ѹкрасив, и тѣло просвѣтивъ, храмъ стому дху себе показа красн^ишТи» [Попова 2020, 157] (Перевод: Как Весе-лиил в древности с терпением выстроил скинию, где помазания царям, пророчества и прочие законные действия совершались, так и сей святой, душу украсив и тело просветив, сам себя сделал еще более прекрасным храмом Святому Духу).
В одиннадцатом толковании речь идет о сюжетном эпизоде Жития, относящемуся к агиографическому топосу чуда – исцеления молитвой святым Иоанном монаха Исаакия от блудной страсти. В центре находится образ святого, ему дается характеристика в панегирическом стиле: он – «великий отец», в нем явлена «совершенная любовь», он сострадателен и смиренен (см.: [Попова 2020, 157–158]).
Двенадцатое толкование направлено на характеристику образа святого и затрагивает важнейшую мысль о даре слова , полученного им от Бога. В цитате, к которой относится толкование, звучат упреки завистников святому в болтливости и пустословии. И толкователь спешит дать характеристику его слову – оно благодатное, источник поучений: «Слово б͡лгодатїю преб͡лженныи сеи о͡цъ, к приходѧщимъ богатнѡ подаѧ…» [Попова 2020, 158].
Тринадцатое толкование фактически продолжает предыдущее, но не сю-жетно, а панегирически , славословя Премудрость преподобного: «Премдрость ѹбѡ всѣмъ имѹщим ю в славꙋ б͡жїю, сокровище есть б͡лгое добродѣтелем» [Попова 2020, 158].
Четырнадцатое и последнее толкование возвращает нас к началу Жития, а именно к топосу рождения с идеей пребывания святого в Небесном граде, но на другом уже этапе создания образа – его утверждения в святости. Финал Жития обращает к образу пророка Моисея: «Единѣмъ точїю неподобенъ мѡи-сею бывъ, во іер͡слим горнїи входомъ. ꙗкоже онъ долнѧгѡ нѣкакѡ не полꙋчи» [Житие… 2024] («Тем одним отличаясь от Моисея, что вошел в горний Иерусалим, а Моисей, не знаю как не достиг земного» [Краткое описание жития… 2006, 10].
Главной характеристикой здесь становится сопоставление с Моисеем, образ которого сопровождает образ Иоанна Лествичника и в других текстах: втором житийном повествовании: «О том же авве Иоанне, игумене Синайской горы, то есть Лествичнике (Повествует один монах Синайский, который был, как и Даниил Раифский, современником преподобного Иоанна)» [Лествица 2006, 11-12]. И если во втором случае сравнение уподобляет святого Иоанна пророку Моисею (чудо появления пророка Моисея на трапезе братии в день поставления прп. Иоанна игуменом), а затем и прямо называется он Моисеем: «Когда же Моисей этот, преподобный игумен наш Иоанн, отходил ко Господу…» [Лествица 2006, 12]), то в рассматриваемой цитате Жития и в сопровождающем его толковании делается акцент на различии: не вошедшем Моисее в земной Иерусалим, но достигшем горнего Иерусалима преподобного Иоанна: «Мѡисеи ѹбѡ землю ѡбѣтованїѧ не видѣ, иже есть долнїи иер͡слимъ, за еже рещи емѹ со властїю, ꙗкѡ да еда ѿ камене сегѡ дам вамъ водꙋ. к неразѹм-ным г͡лѧ їи͡лтѧномъ. сеи же вниде в горнїи їер͡слимъ. землѧ же ѡбѣтованїѧ есть, цр͡ство нб͡сное по возводномꙋ, еже исходатаиствꙋет, безстрастїе и разꙋмъ» [Попова 2020, 158-159] ( Перевод: Моисей не увидел земли обетованной, то есть земного Иерусалима, за то, чтобы пришлось сказать ему со властию, обращаясь к неразумным израильтянам: что когда дам вам от сего камня воду; этот же вошел в горний Иерусалим, ибо земля обетованная есть Царство небесное, куда вводят бесстрастие и разум).
Заметим, что перед нами в данном случае не противоречие, а форма библейского параллелизма, реализующего принцип прообразовательности ветхозаветных образов и сюжетов в отношении к Новому Завету и, соответственно, Новозаветному преданию, к которому и относится агиография.
Таким образом, анализ толкований в их контекстно-текстовой связи с Житием позволяет заметить влияние особенностей авторского сознания, выражающегося в цели толкования, его направленности, стиле, характере образности. Можно выделить три основные функции, которые выполняют толкования в этом Житии. Первая и главная – агиографическая, она присуща большинству толкований и просматривается на двух уровнях – смысловом и формальном. Конечно, главной является смысловая роль (такова цель схолий в любом тексте) – раскрытие образа святого, объяснение особенностей его подвига, своего рода характеристика личности святого с акцентом на духовной ее стороне (не психологической). И здесь соответствие толкований житийному тексту Даниила Раифского мы видим в осмыслении толкователем главной оппозиции – вещественного / невещественного, видимого / невидимого. Формообразующая, и тоже агиографическая, роль толкований осуществляется на сюжетно-композиционном уровне, толкования связаны с топосами, их продолжают или разъясняют, как бы усиливая «конструкцию» житийного текста. Среди них есть смешанные по своей роли толкования, с установкой и на читателя, и на характеристику образа святого.
Вторую функцию – проповеди или поучения с установкой на читателя Жития – выполняют пятое, шестое, отчасти девятое толкования. В них делается больше пояснений дидактического характера, что ослабляет их связь с агиографическим контекстом, а пятое толкование, по сути, выходит за его рамки.
Третья функция толкований – стилевая. В стилевом отношении текст толкований в о сновном идет вслед за стилем и образностью самого Жития, что делает их органично вписанными в житийный текст, исключение со ставляют толкования пято е и отчасти шестое.
Таким образом, все толкования связаны с событийной канвой, или сюжетом («Βίος»), с ключевыми композиционными топосами, следовательно, вписываются в житийную «схему». Отличие есть в стиле: встречается проповеднический стиль, есть толкования, близкие стилю Даниила Раифского, т.е. панегирическому. Не всегда наблюдающееся единство стиля толкований и Жития объясняется принадлежно стью разным источникам и, следовательно, авторам схолий. Но эта разность не нарушает главного качества средневекового текста – его целостности. Визуальное расположение толкований внутри текста, которое, по нашему убеждению, было выбрано Сергием Шелониным не случайно, отвечает важнейшей особенности средневековых произведений – причастно сти одному «контексту византийско-славянской символики мироздания, основанной на христианском учении отцов церкви и на традиции монастырской жизни…» [Гардзанити 2014, 7]. В целом схолии в рассмотренном Житии Иоанна Синайского поясняют, углубляют смысл ключевых топосов, активно участвуют в воссоздании образа святого, органично вписываясь в общий агиографический контекст Жития.
Список литературы Функция толкований в житии Иоанна Синайского (на материале старопечатного издания Лествицы 1647 г)
- Гардзанити М. Библейские цитаты в церковнославянской книжности. М.: Ин-дрик, 2014. 232 с.
- Дионисий (Шлёнов), игумен, Кордочкин А., свящ. Иоанн Лествичник // Православная энциклопедия. Т. 24. М.: Церковно-научный центр РПЦ «Православная энциклопедия», 2011. С. 404-431.
- Дорофеева Л.Г. Агиографическая топика в Житии Иоанна Синайского (на материале старопечатного издания Лествицы 1647 г.) // Новый филологический вестник. 2022. № 3(62). С. 106-124.
- Дорофеева Л.Г. Топос лествицы в житии Иоанна Синайского (на материале Оптинского перевода Лествицы) // Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 22 / гл. ред. О.А. Туфанова, науч. ред. М.В. Каплун. М.: ИМЛИ РАН, 2023. С. 312-330.
- Житие преподобного Иоанна Лествичника (Основная редакция) / компьютерный набор текста Т.Г. Поповой // Иконография и агиография Лествицы Иоанна Синайского. URL: https://art-of-scala.ru/zhitie-lestvichnika/ (дата обращения: 05.07.2024).
- Краткое описание жития аввы Иоанна, игумена святой горы Синайской, прозванного схоластиком, поистине святого отца, составленное монахом раифским Даниилом, мужем честным и добродетельным // Преподобный Иоанн, игумен Синайской горы. Лествица. М.: Издательство Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2006. 444 с.
- Минеева С.В. Проблемы комплексного анализа древнерусского агиографического текста (на примере Жития преп. Зосимы и Савватия Соловецких). Курган: Издательство Курганского государственного университета, 1999. 198 с.
- Николаев Н.И. Об источниках московского издания Лествицы 1647 г. // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 48. СПб.: Дмитрий Буланин, 1993. С. 277-283.
- Попова Т.Г. Житие Иоанна Лествичника (по древнейшей славянской рукописи Лествицы) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2014. № 2(56). С. 83-95.
- Попова Т. Г. Лествица Иоанна Синайского в славянской книжности. Саар-брюкен: LAP LAMBERT, 2011. 457 с.
- Попова Т.Г. Толкования к Житию Иоанна Синайского и маргиналии к ним в первом русском издании Лествицы // Сергий Шелонин и древнерусская книжность XVI-XVII вв. / ред. О.С. Сапожникова. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2020. С. 148-163.
- Преподобный Иоанн, игумен Синайской горы. Лествица. М.: Издательство Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2006. 444 с.
- Руди Т.Р. О композиции и топике житий преподобных // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 57. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. С. 431-500.
- Сапожникова О.С. Русский книжник XVII в. Сергей Шелонин. Редакторская деятельность. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2010. 560 с.