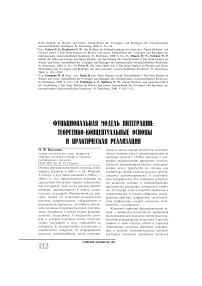Функциональная модель интеграции: теоретико-концептуальные основы и практическая реализация
Автор: Бахлова О.В.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия и методология социальных и гуманитарных наук
Статья в выпуске: 1 (7), 2008 года.
Бесплатный доступ
Функционалистский подход, теория неофункционализма, постнеофункционализм, интеграция, союз беларуси и России
Короткий адрес: https://sciup.org/14720440
IDR: 14720440
Текст статьи Функциональная модель интеграции: теоретико-концептуальные основы и практическая реализация
ИСИ МГУ им. Н. П. Огарева
Основы функционалистского подхода, получившего развитие в 1940-е гг. (Д. Митрани, А. Клоуд, и др.), были заложены в 1920-е — 1930-е гг. Его представители исходили из стремления обеспечить мирное существование государств, чему, по их мнению, препятствовали партикуляризм и эгоизм национальных государств. Функционализму присущи акцент на социально-экономических аспектах, рациональность, убежденность в возможности прогресса, способного обеспечить основные потребности людей. Постулатами, лежащими в основе теории функционализма, называются: 1) выделение секторов, в которых возможно тесное сотрудничество государств в силу совпадения их интересов; 2) разграничение технических и политических вопросов; 3) непрерывность процесса взаимодействия, когда сотрудни чество в одном секторе постепенно подготавливает условия для его распространения на смежные области1. Особое значение в концепции «разветвления» придается «технологической детерминированности»: интегрированное целое трактуется не столько как сообщество наций, сколько разумно организованное административное и экономическое товарищество. Его главными субъектами являются техники и администраторы, прагматично решающие конкретные вопросы, благодаря чему создаются привычка к сотрудничеству и чувство общности, разрушающие причины конфликтов: «экономическая унификация создает основание политического соглашения»2.
Ключевой принцип функциональной теории — принцип постепенности, требующий последовательной передачи суверенных полномочий международным органам и организациям; в свою очередь, объем и характер общественно полезных функций, перешедших в ведение вненациональных органов, выступает основным критерием процесса интеграции. Будущее сообщество, по мнению функционалистов, будет иметь расплывчатую институциональную структуру, в центре которой — система вненациональных органов, наделенных организационноуправленческими полномочиями в специальных областях. Их действия должны координироваться планирующими органами; за национальными органами власти остаются функции в сфере внешней политики и обороны. Многими авторами допускается внедрение «федерализма в рассрочку». Функционалисты также обращаются к проблеме трансформации государственного суверенитета в условиях интеграции. Ее суть определяется терминами «размывание» основ суверенитета и «перемещение лояльности» населения к международным институтам. Но, несмотря на доминирование социально-экономических постулатов, функционализм в конечном счете ориентирован на политическую цель — решение вопроса о власти, с признанием возможности полного «отмирания» суверенитетов национальных государств в силу их несостоятельности в ситуации глобальных изменений3.
В конце 1950 — начале 1960-х гг. складывается теория неофункционализма (Э. Хаас, Л. Линдберг, Ф. Шмиттер и др.), представители которой признали большее значение политических факторов, в том числе специфической роли элит и обратных связей — от политики к экономике. Ими подчеркивается, что экономика обусловливает процесс интеграции через действия политических сил (групп интересов, партий, правительств, международных организаций), что ход и результаты интеграционного процесса в значительной мере зависят от активной деятельности «организационного компонента». К структурным условиям успеха интеграции они относят политический плюрализм и консенсус относительно фундаментальных ценностей. На интеграцию в данном случае переносится понимание политики как «рынка», где группы интересов конкурируют между собой во влиянии на процесс принятия решений. Неофункционалисты указали также на вероятностный характер логики интеграции и акцентировали внимание не на глобальном, а на региональном уровне. Э. Хаас определил политическую интеграцию как «процесс, в ходе которого участники политической жизни нескольких отдельных национальных систем склоняются к тому, чтобы переориентировать свою лояльность, цели и политическую деятельность в сторону нового центра, институты которого обладают юрисдикцией или претендуют на ее распространение по отношению к существующим национальным государствам»4.
«Перемещение лояльности» в неофункционализме также обусловлено «прагматическим детерминизмом» социального поведения. При этом речь идет о многовекторной (новой и традиционной) лояльности. Наиболее существенными в неофункциона-листской теории выступают проблемы благосостояния, внешней политики и обороны. Политика экономического роста и благосостояния обозначается как «малая политика», и ее значение, с точки зрения неофункционалистов, возрастает, в отличие от «большой политики», исходящей из соображений престижа. Э. Хаас, отмечая неспособность национального государства, примирившегося с фактом взаимозависимости «в век индустриализации и равноправия», реализовать «цели общественного благосостояния в собственных узких границах», говорит о «пришествии наднациональности», символизирующем победу экономики над политикой, над «этноцентрическим национализмом»5.
Движущие силы и механизмы интеграционного процесса — «распространяющаяся логика секторной интеграции» — объясняются на основе концепции «перелива» («переплескивания»). «Перелив» как кумулятивный процесс осуществляется в три стадии: 1) «функциональный перелив» — постепенное расширение интеграционного процесса на новые сектора, сферы; 2) политическая — осознание национальными акторами преимуществ интеграции и переориентации лояльности; 3) изменения правотворческого процесса. Прохождение стадий должно быть строго последовательным и обусловлено воздействием «эффекта обобщения успехов», «эффекта подражания» и «эффекта фрустрации», т. е., с одной стороны, стимулируется успешным развитием интеграции в разных сферах, с другой — подталкивается неудачными действиями национальных государств6.
ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИЛЛЬЯЫЛ И ГУМЛЯИТЛРЯЫИ ялтк
Неофункционалистская модель организации власти в интеграционном объединении базируется на передаче власти центру через практику компромиссов, коллективном процессе принятия решений и принципе взаимовыгодности. Большое внимание здесь уделяется политизации процесса принятия решений, предполагающей, что участники пытаются решить свои проблемы таким образом, чтобы возвысить уровень общих интересов и передать центру больше власти. Разрабатывается несколько вариантов организации власти в интеграционных объединениях, например: региональное государство с сосредоточением политической власти в центре; региональная община с рассредоточением власти между различными институтами на уровне регионального общества; асимметричная региональная надстройка, где власть распределяется между различными участниками, ни один из которых не занимает доминирующее положение (Э. Хаас)7.
В конце 1960 — начале 1970-х гг. неофункционализм подвергся существенной модификации; возникшее на этой основе направление получило название «модернизированный неофункционализм» (постнеофункционализм) (Л. Линдберг, Дж. Най, Ф. Шмиттер, С. Шейнгольд и др.). В центре внимания его представителей — логика и динамика интеграционного процесса. Э. Хаас и Ф. Шмиттер предположили, что темп политизации экономического сотрудничества задается так называемыми базисными переменными (экономической и политической мощью государств, интенсивностью и характером хозяйственных связей, степенью взаимопереплетения национальных элит), что ход политической интеграции определяется переменными процесса (формами и порядком принятия решений, степенью взаимодействия между интегрирующимися государствами и др.), а его результаты — структурными переменными (соглашениями о целях интеграции, возможностью свободы выбора и т. п.)8.
В рамках постнеофункционализма показательным является изменение отношения к «большой политике»: от признания большей «бесплодности» неэкономических задач с точки зрения перспектив политической интеграции его представители пришли к осознанию большей долговечности решений, в основе которых лежат соображения «большой политики» по сравнению с решениями, диктуемыми совпадением прагматических ожиданий9.
Постнеофункционалистская модель Линдберга — Шейнгольда основана на теории спроса и предложения, адаптированной к политической сфере. Спрос понимается как потребности национальных акторов, доводимые до наднациональной власти через национальные правительства, предложения — как решения наднациональной власти. Платежным средством выступают поддержка и лояльность со стороны национальных акторов. Политическая система интеграционного объединения разделяется авторами на два уровня: 1) предметной компетенции и 2) институциональной структуры, необходимой для принятия решений. Поддержка и лояльность системе рассматриваются через индикаторы воззрения и фактологические индикаторы, определяющие прямую поддержку системы и степень идентификации с ней. Индикаторы показывают как утилитарность, практическую пользу системы, так и ее психологическое восприятие. «Системный рост», означающий улучшение обоих уровней, отождествляется с положительным развитием интеграции10.
Большой интерес у функционалистов вызывает проблема динамики, трансформации и стабильности интеграционной системы, важная роль в которой отводится политическому сообществу. Оно рассматривается как интегрированный политический комплекс, в котором обеспечиваются: 1) эффективный контроль над использованием средств насилия (принуждение); 2) центр принятия решений, который может значительно влиять на распределение ресурсов и вознаграждений в обществе (утилитарное воздействие); 3) «доминирующий фокус политической идентификации для подавляющего большинства политически сознательных граждан» (идентификация). Несоответствие уровней интеграции по всем измерениям, с точки зрения А. Этциони, определяет интеграционно несбалансированные системы, имеющие дисфункциональный характер. М. Арах, развивая концепцию А. Этциони, утверждает необходимость син- хронного существования двух предпосылок успешного преодоления кризисных условий: сохранения равновесия между факторами функционального и идентификационного характера и уважения необходимости постепенного развития в процессе углубления и расширения интеграции11.
В постнеофункционализме большое внимание обращается на неоднозначные результаты интеграционного процесса — от расширения интеграционной системы с изменением ее компетенции и трансформации институционального механизма принятия решений до свертывания и индифферентности системы. Их демонстрируют гипотезы Ф. Шмиттера (мультипликационного эффекта, «кривой взаимодействия» и др.). Л. Линдберг и С. Шейнгольд также допускают несколько вариантов интеграции: трансформация (расширение компетенции интеграционного объединения), углубление сотрудничества (принятие решений по новым вопросам без расширения компетенции), сохранение статус-кво, недостаточная эффективность законотворческого процесса и «развитие вспять» (сужение компетенции). В интеграционном процессе находится даже «консервативная динамика»; Э. Хаас и Ф. Шмиттер не исключают возможности кризисов и конфликтов, «трудных переговоров или временных отступлений». При этом, с точки зрения Э. Хааса, кризис может привести к дезинтеграции; Л. Линдберг считает кризисы необходимыми для дальнейшего развития интеграции, а Ф. Шмиттер подчеркивает, что урегулирование кризисов является сутью интеграционной динамики12.
Справедливо отмечается, что, с одной стороны, неофункционализм выступал в качестве квазиофициальной доктрины Европейских сообществ вплоть до кризиса 1965—1966 гг., с другой — что практические трудности, возникновение кризисных ситуаций в Сообществах подталкивали к модификации теории, результатом которой и стало появление постнеофункционализма. В отношении европейской интеграции главным новым его моментом было указание на вероятностный характер перехода к политическому союзу, что подтвердили дальнейшие события, несмотря на подписание Договора о Европейском Союзе в 1992 г. Более существенно концептуальное влияние функционализма сказалось в сфере европейского интеграционного права, поспособствовав утверждению принципов его верховенства и прямого действия13. В целом восприятие на первых этапах европейской интеграции именно функциональной, а не федералистской теории можно объяснить комплексом обстоятельств. Прежде всего сказалось отсутствие согласия между европейскими государствами — лидерами антигитлеровской коалиции — Францией и Великобританией, в которых, к тому же, преобладали сторонники недопущения наднациональности, ограничения суверенитета, что подкреплялось, естественно, недавним преодолением по сути глобальной ему угрозы, возникшей в ходе Второй мировой войны, когда чрезвычайно усилились патриотические чувства, связанные со стремлением отстоять свою независимость, сохранить себя как самостоятельную политическую единицу. «Рудиментарное» имперское сознание крупнейших европейских наций подкреплялось не только уроками Второй мировой войны, но и спецификой послевоенной эпохи — эпохи холодной войны, блоковой конфронтацией, в которую они оказались также втянутыми, диктовавшей отождествление объединения и гегемонии, влекущей подчинение и растворение, утрату национальной идентичности. Естественно, у них самих сохранился комплекс «великодержавности», присущей им в недавнем историческом прошлом. Малые страны, изначально составлявшие половину состава Европейских сообществ и позже — абсолютное большинство, разумеется, тоже не желали стать частью асимметричного политического союза, возможной европейской федерации, хотя сторонников ее здесь постоянно было намного больше, чем в ведущих государствах, может быть, за исключением ФРГ. В свою очередь, поддержка идеи европейской интеграции Германией и Италией была обусловлена их стремлением нивелировать различия в статусных позициях с другими европейскими государствами, выступавших в роли не побежденных, а победителей, растворения «ограниченного суверенитета», вытекавшего из режима международных санкций и конституционных положений, в идее позитивного суверенитета интеграционного объединения. Таким обра- зом, общие потребности социально-экономического восстановления и одновременно — политические опасения — определили выбор европейцев в пользу функциональной, неполитизированной модели, хотя в дальнейшем опять же императивы традиционной европейской политики — «баланса сил» — побуждали их обращаться и к идее европейской федерации, рассматриваемой как альтернативный центр силы. Схожая аргументация может быть обнаружена и в процессе развития российско-белорусской интеграции. Однако социально-экономические вызовы, ход и результаты внутриполитической борьбы, хотя и подталкивали стороны к сближению, в ситуации явной асимметрии потенциалов и влияния, утверждения «верхушечного» характера интеграционного процесса, сделали чрезвычайно трудным нахождение прагматичного решения, выработку оптимальной, сбалансированной интеграционной модели с четкими структурными и содержательными характеристиками.
Первым «интеграционным прорывом» в российско-белорусском взаимодействии, импульс которому был дан Соглашением о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 г., можно считать заключение Соглашения о Таможенном союзе 6 января 1995 г. Оно предусматривало сочетание механизмов негативной и позитивной интеграции и вводило принцип постепенности. Одновременно было подписано Соглашение о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов российского и белорусского рубля. В Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 21 февраля 1995 г. речь шла уже о создании условий для формирования общего экономического пространства, содействии углублению экономической интеграции. Указание на свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы свидетельствовало о намерении сторон перейти к общему рынку двух государств14.
Изначально для обеих стран было важно выбрать модель и направление экономического взаимодействия, чтобы избежать консервации ситуации. При этом в условиях асимметричной зависимости РФ и РБ (в сфере ТЭК и пр.) ими была сделана попытка перейти к горизонтальной интеграции и, что не менее парадоксально, — при асинхронности проводимых реформ — применить рыночно-институциональную (с усилившимися позже элементами дирижизма) концепцию. С самого начала, учитывая мотивацию Белоруссии, для нее было свойственно внимание не к СНГ, экономическая целесообразность которого была неясна, а к связям с РФ, хотя Белоруссия и подписала Договор об Экономическом союзе 1993 г., Соглашение о Платежном союзе 1994 г. и др. Эта особенность, как и иные обстоятельства историко-культурного и цивилизационного характера, обусловила лояльность Белоруссии по отношению к РФ. В то же время, после прихода к власти в РБ А. Лукашенко, стало очевидным более активное применение белорусской политической элитой контактов на высшем уровне, популизма и других приемов с опорой на институционный метод, характерный для федералистской, а не функциональной теории. Главная сохранившаяся функциональная доминанта в российско-белорусском интеграционном проекте — это социально-экономическое обоснование объединения.
Так, в Договоре об образовании Сообщества России и Белоруссии от 2 апреля 1996 г. провозглашалось решение образовать на добровольной основе в целях «объединения материального и интеллектуального потенциалов своих государств для подъема экономики, создания равных условий повышения уровня жизни народов и духовного развития личности» «глубоко интегрированное политически и экономически» Сообщество (ст. 1)15. В целом Договор базировался на сочетании элементов федералистской и функциональной теорий. Дальнейшее развитие событий показало усиление организационно-политических механизмов, призванных сформировать положительный образ российско-белорусского объединения, отличный от СНГ. Новые интеграционные инициативы должны были послужить своего рода компенсацией за неутешительные практические результаты как в сфере двусторонних отношений, так и в рамках Таможенного союза и сбалансировать ход политического процесса в обоих государствах в пользу правящей элиты, т. е. во многом они были обусловлены эффектом фрустрации.
Договор о создании Союза Беларуси и России от 2 апреля 1997 г. и Устав Союза развивали положения Договора 1996 г. «в целях достижения действенной интеграции в экономической и других сферах общественной жизни». Задачами Союза признавались: 1) в экономической сфере: обеспечение динамичного экономического развития государств-участников; создание единого экономического пространства; согласование структурной политики с целью эффективного использования экономического потенциала государств-участников и пр. (ст. 9 Устава); 2) в социальной сфере: обеспечение равных прав граждан в получении образования, медицинской помощи, в трудоустройстве, предоставлении других социальных гарантий; содействие развитию образования, взаимообогаще-нию культур и др. (ст. 10 Устава)16. Однако Договором о создании Союзного государства 1999 г. значительно усиливалась федералистская составляющая интеграционного проекта, хотя и говорилось о постепенном достижении целей Союзного государства с учетом приоритетности решения экономических и социальных задач (ст. 2). Договор был ориентирован на повышение благосостояния и уровня жизни братских народов, создание единого экономического пространства, проведение согласованной социальной политики, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Установление предметов ведения Союзного государства с определением исключительного ведения Союзного государства (ст. 17) и совместного ведения Союзного государства и государств-участников (ст. 18) закладывало основы внедрения коммунитарного метода, характерного для ЕС17. Вместе с тем этот метод более соответствует федералистским установкам в сфере интеграции.
Поддержать поступательное развитие российско-белорусской интеграции, сделать возможным ее «разветвление», «перелив» на новые сферы двусторонних отношений РФ и РБ могли в первую очередь совпадающие интересы политических сил обоих государств, реальные успехи в осуществлении тех или иных соглашений и лояльность населения. В реальной практике серьезными препятствиями на этом пути в начале 2000-х гг. стали разрушение «политического пакта» правящих элит, отсутствие наднационального политического сообщества, незаинтересованность ведущих политических партий прежде всего в РФ в интеграционной проблематике, постепенное размывание «союзной» лояльности населения, возникшие на фоне «системных стрессов» и трансформации внутренних политических систем. Социально-политическая основа российско-белорусского интеграционного взаимодействия оказалась существенно подорванной ослаблением взаимной заинтересованности в использовании идеи интеграции как средства укрепления внутренних позиций. Особенно наглядным это было для новой российской правящей элиты, позиционирующей себя уже не столько как «собирателя земель» на пространстве бывшего Советского Союза, а внутри страны (курс на укрепление российской государственности) и гаранта ее социально-экономического развития (удвоение ВВП и т. п.), получившей в итоге новый ресурс легитимности в глазах избирателей. Для российского руководства доминантой новой стратегии выступала нейтрализация оппозиции, устранившая необходимость жесткой «интеграционной конкуренции» внутри страны, присущей периоду 1990-х гг. В сознании же россиян, как показывают данные социологических опросов, одним из преобладающих образов Белоруссии становится образ «страны-нахлебника». Белорусский лидер попытался манипулировать также изменившимися внутренними условиями — формированием «Европейской коалиции», образованием Конгресса Демократических сил, не приемлющих модели «аншлюса». Белорусское население отличается большим социальным оптимизмом и неприятием, со своей стороны, российской модели приватизации и реформ в целом. С обеих же сторон наблюдается вполне объяснимое чувство разочарования. Чрезвычайная политизированность, отсутствие публичного обсуждения интеграционной проблематики, политических сил, реально заинтересованных в поступательном развитии российско-белорусской интеграции, негативные моменты, прослеживающиеся во всех компонентах
ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИЛЛЬЯЫЛ И ГУМЛЯИТЛРЯЫИ ялтк
социально-политической (квази)интеграци-онной системы Союза, сообщают ей дисфункциональный характер18.
Вместе с тем официально обе стороны неоднократно отмечали взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии интеграции. Поставленные задачи планировалось осуществить в ходе переговорного процесса, путем конкретных дел. В совокупности все это, как прогнозировалось обеими сторонами, позволит выйти на «более высокий уровень нашего сотрудничества» (А. Лукашенко), на «путь, ведущий вперед, к повышению благосостояния, к безопасности и защищенности, отвечающий реалиям наступившего века» (Б. Грызлов). Президент РФ В. В. Путин во многом, как следовало из его заявлений, оставался на позициях теории неофункционализма. При этом российский лидер, сделавший достаточно радикальные заявления об интеграционной модели РФ и РБ в 2002 г., в дальнейшем формально уступил А. Лукашенко роль инициирующего субъекта в доработке интеграционного проекта19. Возможно, такая сдержанная позиция объясняется уроками политического поражения на Украине в 2004 г. и меньшей заинтересованностью в привлечении во внутренней политике дополнительного ресурса — апелляции к дружбе с «братским народом». С российской стороны восприятие Белоруссии становится нейтральным, ориентированным на «рыночный» подход. Кроме того, снижение значения фактора выборов в российском политическом процессе, актуализация глобальных проблем (международный терроризм, энергобезопасность), попытка РФ позиционировать себя в качестве глобального игрока выполняют роль ингибитора процесса интеграционного взаимодействия, отвлекая его субъектов и побуждая откладывать решение принципиальных вопросов, о чем свидетельствуют в том числе соглашения 2006—2007 гг. в газовой сфере.
Наиболее динамичной и сложной в плане равноправного взаимодействия России и Белоруссии, помимо политической, является экономическая сфера, признаваемая доминантной в функциональной теории. «Негативный дирижизм», выраженный в действиях представителей разных элитных групп и интегрирующихся государств, пре пятствует эффективной реализации несомненных объективных предпосылок для экономической интеграции и, как это ни парадоксально, делает экономическую сферу, с позиции функциональной теории, наименее политизированной областью, подверженной воздействию данного фактора, несмотря на декларируемые намерения. Напротив, сфера «высокой» политики, в которой присутствуют интересы, связанные с обеспечением власти, влияния, престижа, суверенитета и безопасности, в контексте российско-белорусских отношений на практике частично опровергает аргументы в защиту ее максимальной проблематичности для интегрирующихся государств. Военно-политическая интеграция России и Белоруссии, на наш взгляд, — это наиболее устойчивый и относительно непротиворечивый компонент союзного строительства, что обусловлено общностью геостратегических и геополитических интересов двух стран. Акцентированием данной сферы интеграция России и Белоруссии существенно отличается от модели Евросоюза и других объединений. Подводя итоги, следует заметить, что утверждение на современном этапе так называемого прагматичного подхода к интеграции не только РФ и РБ, но и на всем пространстве СНГ, автоматически не может устранить выявленные противоречия, что проявляется в политике руководства стран и в ожиданиях их населения. Возрастает потребность в «реальной» интеграции, обеспечении материальных запросов (больше для россиян), но постепенно в массовом сознании как рядовых граждан, так и политических элит исчезает резкое противопоставление ближнего и дальнего зарубежья, смещая векторы заинтересованности и центры лояльности, размывая функциональные основы взаимодействия. Все это свидетельствует о неудовлетворенности сложившейся ситуацией и в российско-белорусских отношениях, и в рамках других интеграционных форматов на пространстве СНГ и повышает актуальность проблемы установления контроля над интегрирующими факторами и доработки интеграционной политики с четким и эффективным теоретико-методологическим и практическим инструментарием.
Список литературы Функциональная модель интеграции: теоретико-концептуальные основы и практическая реализация
- Арах М. Европейский союз: видение политического объединения. М., 1998
- Шеленкова Н. Б. Европейская интеграция: политика и право. М., 2003.
- Современные буржуазные теории международных отношений: Критический анализ/отв. ред. В. И. Гантман. М., 1976.
- Сафронова О. В. Функционализм и неофункционализм: экономические, социальные и политические процессы региональной интеграции//Регион в составе федерации: политика, экономика, право. Нижний Новгород, 1999. С. 102-107.
- Барановский В. Г. Политическая интеграция в Западной Европе: некоторые вопросы теории и практики. М., 1983.
- Haas E., Schmitter P. Economics and Differential Patterns of Political Integration: Projections about Unity in Latin America//International Organization. 1964. Vol. 18, № 4.
- Haas E. Technocracy, Pluralism and New Europe//A New Europe?/ed. S. Graubard. Boston, 1964. P. 62-86.
- Борко Ю. А., Цитрин П. С. О некоторых моделях политической интеграции Западной Европы//Мировая экономика и международные отношения. 1975. № 5.
- Крылова И. С. Правовые аспекты буржуазных интеграционных теорий и проблема суверенитета//Проблемы буржуазной государственности и политико-правовая идеология. М., 1990.
- Шемятенков В. Г. Европейская интеграция. М., 2003.
- Etzioni A. Political Unification: A Comporative Study of Leaders and Forces. N. Y., 1965
- Lindberg L. Political Integration as a Multiclimensional Phenomenon Requiring Multivariate Measurement//International Organization. 1970. Vol. 24, № 4. P. 649-731.
- Schmitter Ph. C. A Revised Theory of Regional Integration//International Organization. 1974. Vol. 24. № 4. P. 836-868.
- Европа перемен: концепции и стратегии интеграционных процессов/под ред. Л. И. Глухарева. М., 2006
- Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 12.
- Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии//Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 47.
- Договор о Союзе Беларуси и России. Устав Союза Беларуси и России//Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 30.
- Договор о создании Союзного государства//Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 7.
- Белорусы скептически относятся к возможности создания Союзного государства [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.regions.ru/news/2122998/
- Седов Л. Чувство удовлетворения и кризис иллюзий//НГ. 2007. 20 февр.
- Петухов В. Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан: есть ли точки соприкосновения?//Свободная мысль. 2006. № 4.
- Федоров В. Чего не учел Лукашенко [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rg.ru/2007/01/31/fedorov.html
- Григорьев В. Не стреляйте в прошлое из ружья, иначе оно выстрелит в будущее из пушки//Союз. Беларусь -Россия. 2004. 1 июля. № 25.
- Григорьев В. Ностальгия по настоящему//Союз. Беларусь -Россия. 2004. 1 апр. № 12.
- Макаров И. Полька в четыре руки//Союз. Беларусь -Россия. 2004. 8 апр. № 13.
- Макаров И. Совет Министров прошел без дискуссий//Союз. Беларусь -Россия. 2004. 17 июня. № 23.
- Медведев А. Павел Бородин: бал правит экономика//Союз. Беларусь -Россия. 2004. 22 апр. № 15.