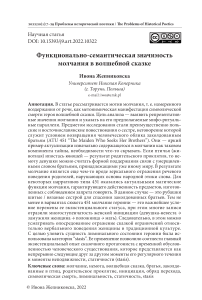Функционально-семантическая значимость молчания в волшебной сказке
Автор: Жепниковска Ивона
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.20, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается мотив молчания, т. е. намеренного воздержания от речи, как метонимическая манифестация символической смерти героя волшебной сказки. Цель анализа - выявить репрезентативные значения молчания и указать на его предполагаемые мифо-ритуальные параллели. Предметом исследования стали преимущественно польские и восточнославянские повествования о сестре, неговорение которой служит условием возвращения человеческого облика заколдованным братьям (ATU 451 “The Maiden Who Seeks Her Brothers”). Они - яркий пример актуализации изначально содержащегося в молчании как таковом компонента тайны, необходимости что-то скрывать. Если птичья (животная) ипостась юношей - результат родительского проклятия, то немоту девушки можно считать формой поддержания связи с умерщвленными словом братьями, принадлежащими уже иному миру. В результате молчание является еще чем-то вроде зеркального отражения речевого поведения родителей, нарушающих основы народной этики слова. Для некоторых нарративов типа 451 оказались актуальными магические функции молчания, гарантирующего действенность предметов, изготовленных с соблюдением запрета говорить. В данном случае - это рубашки шитые / вязаные сестрой для спасения заколдованных братьев. Тем не менее в вариантах сюжета 451 молчание героини - это важнейшее условие перемены ее экзистенциального статуса, при этом многие записи отразили многоступенчатость женской инициации (девушка-невеста → замужняя женщина → положница → мать). Следовательно, в этом можно усматривать опосредованное отражение сказкой ограничений относительно вербального поведения женщины в традиционной культуре. С целью уловить сущность лиминального состояния героини была использована категория “stasis”. Ее применение позволило соотнести главный экзистенциальный опыт сказочного протагониста с временной обусловленностью человеческого существования, которое представляется как непрерывно следующие друг за другом моменты его регулярного течения и моменты неподвижности, статичности (stasis).
Молчание, немота, волшебная сказка, братья, заколдованные в птиц, родительское проклятие, инициация, обряд перехода, символическая смерть, лиминальность, статичность, stasis
Короткий адрес: https://sciup.org/147236207
IDR: 147236207 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.10322
Текст научной статьи Функционально-семантическая значимость молчания в волшебной сказке
С о времен публикации работы В. Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки» (1946) вопрос инициации как обрядовой основы указанной в заглавии его книги жанровой разновидности фольклорной прозы в принципе не подлежит сомнению. При этом сам исследователь не ограничивался сугубо узким пониманием посвящения как обрядового включения юношей в социальную общность по достижении ими половой зрелости1, указывая на прямое или опосредованное сохранение сказкой еще ряда рудиментов свадебного обряда [Пропп, 2000: 262–271], а также шаманской инициации [Пропп, 2000]. Кроме того, ряд соображений на счет актуализации в сказке элементов свадебного обряда содержится в работах Е. М. Ме-летинского [Мелетинский, 1998; 2005: 204–207]. В свою очередь, на возможность соотнесения путешествия сказочного героя в «тридесятое царство» со странствиями шамана, отправляющегося в иной мир вслед за душой умершего или больного, указал Ежи Василевски [Wasilewski, 1979: 213–230]2. Все исследователи сходятся во мнении, что центральным структурным элементом любой инициации является акт символической смерти посвящаемого в его прежнем состоянии и возрождение к новой жизни в статусе полноправного и полноценного члена социума, что осуществлялось посредством ряда испытаний.
Вместе с тем далеко не все аспекты данной проблематики разработаны в достаточно удовлетворительной степени. К ним, в частности, относятся метонимические репрезентации символической смерти героя / героини волшебной сказки, а также их мифо-ритуальные параллели. Среди них весьма значимое место занимают различные формы коммуникационной изоляции персонажей, в том числе молчание.
Это чрезвычайно многоаспектное явление (см.: [Богданов: 7–69]), в традиционной культуре оно понимается как форма ритуального поведения человека, заключающаяся в намеренном воздержании от речи [Агапкина: 292]. Следовательно, определяемое таким образом молчание предполагает объективно существующую способность к речевому общению, что отличает его от немоты, т. е. отсутствия или утраты такой способности. К неговорению близко состояние тишины, свойственное окружающему миру, например, во время переходных праздников календарного цикла. Как показали исследования, существует целый ряд семиотически близких молчанию явлений, соотносимых со смертью и сферой потустороннего, например, мрак, ночь, тайна, глухота, неподвижность, забвение, являющихся реализацией общей идеи отсутствия, исчезновения, исчерпания, вакуума [Арутюнова], [Трубачев: 101–103].
Исходя из вышесказанного, в настоящей статье мы попытаемся раскрыть актуализируемые волшебной сказкой значения молчания, определить его место в сюжетно-композиционной структуре данных нарративов, выявить функции, выполняемые в ходе действия, а также указать на его предполагаемые обрядовые и шире — мифологические параллели. Кроме этого, мы постараемся выявить связь молчания с осознанием временной обусловленности человеческого существования как важнейшего экзистенциального опыта сказочного героя.
Основным материалом для анализа послужили польские и восточнославянские варианты сюжетного типа ATU 451 “The Maiden Who Seeks Her Brothers” (Т 451 “Siedem kruków”, СУС 451 «Братья-вороны (лебеди, волки)»3). Они — довольно редкий случай, когда молчание персонажа определяет ход событий в целом, а также детерминирует появление семантически близких ему атрибутов сферы смерти: тишины, тайны, мрака, неподвижности. Для уточнения некоторых выводов привлекаются сказки типа ATU 300 “The Dragon-Slayer” (Т 300 “Królewna i smok”), ATU 710 “Our Lady’s Child” (T 710 “Wychowanka Matki Boskiej”, СУС 710 «Крестница Богоматери»), ATU 706 “Salvatica” (T 706 “Salvatica”).
Соотношение молчания с пространственным перемещением героя
Молчание персонажа наблюдается, в сущности, в вариантах любого сказочного сюжета, на самых разных этапах развития действия, в том числе уже в его начале, т. е. в завязке. Это связано с отправкой или отсылкой героя / героини из дома, мотивированными какой-либо бедой, недостачей [Пропп, 1969: 38–39]. Как правило, воздержание сказочного странника от речи, высказываний обусловлено объективными обстоятельствами путешествия и одновременно как бы дублирует свойства преодолеваемого пространства, которое по ряду признаков соотносится с потусторонним миром. Само перемещение героя обычно детально не описывается, а он сам не испытывает дорожных неудобств, не нуждается в удовлетворении каких-либо потребностей (в пище, во сне и т. п.) [Лихачев: 336–340]4. Лишь достижение им некоего остановочного пункта и встреча с его обитателем порождает необходимость общения.
В качестве примера приведем повествования о сестре, отправившейся на поиски братьев, обращенных в птиц (или животных, например волков [Federowski: 86, 193]). Девушка идет лишь ночью (“sidem lat i sidem dni”, T 451 [Kolberg, 1962 (1867): 123]), не натыкаясь ни на какие человеческие поселения, добирается до разбойничьей хижины, где она получает указания относительно дальнейшего путешествия. Отсутствие каких-либо звуков, как и отсутствие речи, иногда прямо сопряжено с блужданием героини (например, по лесу), в мифологическом сознании осмысляемом как единственная возможность передвижения по иному миру, лишенному любых пространственных ориентиров [Криничная]: «Когда царевна очутилася в этих дремучих, непроходимых лесах, то она питалась разными ягодами и фруктовыми плодами и съестными кореньями» (СУС 451 [Сказки И. Ф. Ковалева: 155], [Kolberg, 1962 (1875): 40]; см.: Т 706 Salvatica [Polaczek: 230])5.
Молчание — залог освобождения от проклятия
Сущность воздержания от речи героини нарративов типа 451 меняется коренным образом с момента, когда оно становится основополагающим условием возвращения братьям человеческого облика, притом условием, принятым их сестрой вполне сознательно, без каких-либо сомнений. Как знак самопожертвования девушки, отказ от речи является еще единственной возможностью поддержать связь с умерщвленными словом братьями, принадлежащими с тех пор уже иному миру [Sulima: 83]6. В контексте поисков ответа на вопрос об актуализации сказкой разных аспектов молчания обратим внимание на записи, в которых птичье существование детей — результат родительского проклятия7. Как можно предполагать, последствия высказанного по неосторожности или злонамеренно негативного пожелания распространяются также на дочь, молчание которой становится чем-то вроде зеркального отражения речевого поведения родителей. Попутно добавим, что родители, проклинающие детей, нарушали строгое социально-культурное табу. Все же самым сильным и опасным проявлением действенной силы слова считалось материнское проклятие, что объяснялось передаваемым ею даром жизни [Engelking: 145–146].
Молчание и необходимость скрывать тайну
Девушка, жаждущая освободить юношей от проклятия, помещается на высокой горе, где, кроме соблюдения запрета касаться земли и запрета говорить, ей необходимо воздержаться от каких-либо движений, а также от принятия пищи и напитков [Kolberg, 1962 (1867): 123]8. Кроме того, местом обособления бывает гнилое дерево [Kolberg, 1982 (1881): 20], верх сосны [Federowski: 87, 194], стог сена [Kolberg, 1962 (1875): 40], лес [Kowerska: 601], [Карнаухова: 310], шалаш [Кретов: 47], остров [Сказки И. Ф. Ковалева: 157]. Героиня продолжает молчать даже тогда, когда ее в жены берет некий богатый человек, случайно оказавшийся на месте ее испытания, а затем, когда на свет появляются дети. Этот момент выглядит особенно драматичным, поскольку, желая соблюсти обещание спасти братьев, она терпеливо переносит клевету свекрови, обвиняющей ее в рождении не детей, а животных [Kolberg, 1962 (1875): 37, 41], [Kolberg, 1964 (1891): 91–92], [Kolberg, 1982 (1881): 21], [Kowerska: 601], [Siewiński: 82], [Ciszewski: 130] или в канибализме [Karłowicz, 1887: 232], [Karłowicz, 1888: 58–59]. Едва ли не поплатившись жизнью, молодая мать сначала изолируется (напр., ее замуровывают живьем [Kolberg, 1962 (1867): 126], потом попадает под топор палача, затем на виселицу, наконец, ее пытаются сжечь на костре как ведьму. Именно в этот момент заканчивается срок наказания юношей и вся история завершается счастливым финалом.
В нескольких вариантах, преимущественно в восточнославянских, еще одним условием отмены заклятия братьев является необходимость приготовить им одежду, материалом для шитья / плетения которой служат растения, добываемые сестрой в каком-либо заповедном месте, например на кладбище. Это, в свою очередь, является поводом для обвинений немотствующей рукодельницы в колдовстве [Bajki Warmii i Mazur: 52], cp.: [Кретов: 47], [Сказки И. Ф. Ковалева: 157], [Сказки Куприянихи: 67]. Небезынтересно отметить, что в данном случае для сказки оказались актуальными магические функции молчания, соблюдение которого считалось залогом действенности изготовляемых предметов или выполняемых работ [Агапкина: 294].
Обратим внимание на пассивность девушки, безвольно и безмолвно поддающейся действиям жениха, а потом его матери, в первую очередь мотивированной незаконченным еще процессом возвращения братьям человеческого облика9. На всем протяжении действия она должна держать в тайне причину своего неговорения, что выявляет еще один аспект значения слова «молчание», а именно — «“умолчанное” молчанием» [Богданов: 67]. Как полагает К. Богданов, «всякое молчание есть молчание о чем-то, молчание кого-то, к кому-то» [Богданов: 55], т. е. оно изначально содержит компонент тайны, необходимости что-то скрывать, не выявлять10, чем усиливается значимость именно такого коммуникационного поведения героини сказок типа ATU 451.
Молчание — важнейшее условие перемены экзистенциального статуса сестры
Дальнейший ход событий показывает, что воздержание от речи, в сущности, является важнейшим условием перемены экзистенциального статуса сестры заколдованных юношей, которые таким образом выполняют роль наставников в процессе ее инициации. За этот период девушка достигает очередных стадий жизненного цикла женщины: молодая девушка (невеста) → замужняя женщина → положница → мать11.
Как и в случае родительского проклятия, на этот раз мы имеем дело с контрастным сопоставлением молчания героини с чрезмерной речевой экспрессией клевещущей на нее свекрови. Любое ложное обвинение недопустимо уже на уровне народной этики слова, строго регламентирующей общение целым рядом запретов и предписаний. В данном случае оно является тем более тяжким, поскольку подвергаются сомнению прокреативные способности невестки, в традиционной культуре синонимичные продлению жизни как таковой в самом широком смысле слова12. Вполне правдоподобно, что в данном случае произошло переосмысление сказкой ритуального обмана, на котором в частности основаны ритуалы защиты новорожденного ребенка от нечистой силы, болезней и других опасностей. Особо действенным считалась подмена младенца животным, что на вербальном уровне осуществлялось громким произнесением информации о рождении волчонка, дьяволенка и т. п. Кроме того, в колыбель первый раз старались класть какое-нибудь животное существо — кошку или курицу [Толстая: 110–111].
Не исключено также, что неблагосклонность сказочной свекрови к невестке — результат сказочной трансформации народных представлений о послеродовой «нечистоте» и, следовательно, вредоносном воздействии роженицы на окружающую среду, являющемся источником ее социальной изоляции. Считалось, что до восстановления физиологических функций организма, т. е до появления первой послеродовой менструации, женщина является «пустой», «порожней» (pol. “pusta”, “próżna”), поэтому любые контакты с растительностью или хозяйственными животными могли привести к потере благополучия и удачи13. В результате, строжайшим ограничениям подлежали ее коммуникативные потребности14, но прежде всего она должна избегать действий, сущность которых состояла в инициировании новых дел. Лишь возобновление менструального цикла у роженицы означало ее возрождение в новом облике, исполненном мощной жизненной энергии [Wasilewski, 2010: 170].
Молчание — клевета (оскорбление) — уменьшение — исчерпание
Вполне правдоподобно, что неприятием свекровью невестки, оборачивающимся клеветой на нее, отмечена смена семейного статуса матери мужа как хозяйки дома. В биологическом плане это означает завершение детородного периода в ее жизни, а в экзистенциальном — постепенное приближение к концу земного существования [Кабакова: 205]. В итоге актуализируется комплекс представлений, связанных с идеей умирания как исчерпания, уменьшения, исчезновения, являющихся базовыми значениями лексемы «таять», которая этимологически близка к лексеме «молчать» [Трубачев: 100–105].
Формы коммуникативной изоляции и идея воспроизведения исходной стадии Бытия
На сюжетном уровне рассматриваемой нами сказки интриги свекрови иногда приводят к замуровыванию молодой матери заживо в стену, заключению в темнице, оборачивающемся в первую очередь невозможностью чувственного, в частности — зрительного, восприятия мира. В ряду остальных чувств (слуха, обоняния, вкуса, осязания) зрение, несомненно, выделяется как доминирующая способность человека, благодаря которой он познает окружающий мир и самого себя [Ясинская: 47]. Поскольку видеть, смотреть — согласно мифологическому мышлению — симметрично по отношению к быть видимым, прекращение этого действия соотносится с представлением об умирании как исчезновении не только объектов восприятия органов чувств, но и воспринимающего их субъекта15.
Обрядовые корни коммуникативной изоляции сказочного героя исследователи находят в помещении инициируемого в пещеру, шалаш, яму, специально построенную избушку, что на символическом уровне тождественно пренатальной темноте материнской утробы, как частного воспроизведения исходной стадии Бытия (эмбриогенез Бытия), представляемой именно как бесконечная ночь и мрак [Eliade, 1997: 59]. В конечном счете, однако, героиня рассматриваемого нарратива покидает место насильственного уединения, но лишь для того, чтобы очередной раз подвергнуться опасности смерти — на этот раз от рук палача (“jaż kat zamierzył się mieczem” [Kolberg, 1962 (1867): 158]). Несомненно, этим усиливается драматизм повествования, поскольку именно в этот момент заканчивается срок наказания братьев. Все же только после всех этих испытаний она вступает, наконец, в предписанные ей социально-культурные роли матери, супруги и сестры, т. е. становится полноправным и полноценным членом социума.
Соотношение настоящей немоты и глухоты с состоянием забвения
Кроме молчания, как говорилось выше, — намеренного или принудительного — в сказочных нарративах есть примеры, когда герой / героиня на самом деле лишаются дара речи, в частности, в наказание за нарушение правил поведе-ния16. Сказанное отразилось в истории о воспитаннице Богоматери, иногда утратившей лишь способность говорить, а иногда еще и слышать (T 710 “Wychowanka Matki Boskiej”, ср.: [Kolberg, 1964 (1888): 178], [Kozłowski: 319]). Попутно отметим, что в традиционной культуре слух и речь считались основными средствами передачи информации, поскольку доминирующими были вербальные формы коммуникации. Тем не менее потеря уже одной из перечисленных способностей делала общение невозможным, поэтому немота и глухота отождествлялись [Gołębiowska-Suchorska: 43]. Притом интересно, что лишение героини слуха и речи напрямую связано с ее провинностями: непослушанием и ложью [Kozłowski: 319]17. Сначала она нарушила запрет входить в комнату, в которой, как выяснилось, лежал окровавленный Христос, а затем не созналась в совершенном действии. В данном случае немота и глухота являются еще симптомами психического расстройства героини, т. е. состояния забвения и лишения ее ума, на что прямо указывает повествователь18:
“A widzisz żeś zaglądała, — mówiłam ja tobie: nie zaglądaj Anusiu do tego pokoiku, bo cię na niskości rzucę i rozum i pamięć ci odejmę <…>”. Matka Boska wzięła i zrzuciła Anusię na ziemię i posadziła ją na stogu siana. Darowała jej tylko złotą szczoteczkę i złoty grzebiuszczek. Jak Anusia usiadła na stogu, tak jej Matka Boska zrobiła, że została niemą i głuchą” [Kozłowski: 319].
Ход событий в сказках типа 451 и 710 показывает, что на сюжетно-композиционном уровне мнимость или истинность молчания не играет существенной роли и они могут развиваться по одной и той же схеме: замужество немой героини, рождение детей (ребенка), клевета свекрови и т. д.
Связь молчания с лиминальной ситуацией
Требование молчать может появиться на любой стадии жизненного цикла героя сказки, однако всегда соотносится с неким его лиминальным состоянием, предзнаменующим обретение им нового облика19. Именно с такой отчетливо обозначенной переходностью мы сталкиваемся в некоторых вариантах сюжета Т 300 “Królewna i smok” (ATU 300 “The dragon-slayer”). Сказанное касается первой послебрачной ночи, во время которой требование молчать сопровождается, как можно полагать, запретом физической близости молодых супругов в его наиболее витальном, т. е. прокреативном аспекте. Знаком чистоты их отношений является лежащий между ними меч [Kopernicki: 13–14]. Необходимость воздержания от полового акта в брачную ночь известна в различных славянских зонах, причем его отсрочка длится от одного дня до двух и более недель [Гура: 523–525]. В рассматриваемой сказке упоминаемые запреты касаются лишь первой совместной ночи, поскольку значима не столько продолжительность запрета, сколько само воздержание от действия, акт обездвижения в момент, когда должна осуществиться перемена. Это соответствует выделенной Ежи Василевским категории stasis , которая является именно таким обездвижением, застоем между отрезками регулярного течения времени20.
Молчание и временная обусловленность человеческого существования
В заключение наших наблюдений отметим, что необходимость молчания, а также прекращение остальных видов коммуникации (слух, зрение, осязание), воздержание от любых движений появляется на разных стадиях жизни сказочного героя, этим может маркироваться какая-либо лиминальная ситуация, всегда знаменующая потенциальную возможность перехода на новый уровень существования.
Бывают, однако, и такие случаи, когда молчанием отмечен не каждый новый этап жизни героя по отдельности, а все совместно. Тем не менее в любом случае связь неговорения с инициацией не утрачивается, поскольку не утрачивается его связь со временем, а точнее — с его определенной концепцией, согласно которой оно представляется как непрерывно следующие друг за другом моменты регулярного течения и моменты неподвижности, статичности. Молчание, как и любые другие формы коммуникативной изоляции, соответствует именно выделенной Василевским категории stasis . Важно подчеркнуть, что переход на какой угодно следующий жизненный уровень, обусловленный, как правило, отказом от предыдущей стадии существования, непременно требует реактуализации исходной стадии Бытия, т. е. шаг вперед в сущности немыслим без шага назад, в мифическое прошлое [Wasilewski, 2010: 348–354]21. В результате представляется возможным несколько уточнить главный экзистенциальный опыт сказочного героя, который, сталкиваясь со смертностью и сексуальностью, осознает преходящий характер человеческого существования, его временную обусловленность.
Список сокращений
ATU — Uther Hans-Jörg. The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography. Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2004. Part 1.
T — J. Krzyżanowski. Polska bajka ludowa w układzie systematycznym. Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum, 1962. T. 1.
СУС — Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка / сост. Л. Г. Бараг, И. П. Березовский, К. П. Кабашников, Н. В. Но виков. Л.: Наука, 1979.
277 p. (In Russ.)
Список литературы Функционально-семантическая значимость молчания в волшебной сказке
- Агапкина Т. А. Молчание // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под ред. Н. И. Толстого. М.: Международные отношения, 2004. Т. 3. С. 292–296.
- Арутюнова Н. Д. Молчание: контексты употребления // Логический анализ языка. Язык речевых действий: сб. cт. / отв. ред. Н. Д. Арутюнова, Н. К. Рябцева. М.: Наука, 1994. С. 106–117.
- Бернштам Т. А. «Хитро-мудро рукодельице» (вышивание-шитье в символизме девичьего совершеннолетия у восточных славян) // Женщина и вещественный мир культуры у народов России и Европы / отв. ред. Т. А. Бернштам. СПб.: Петербургское Востоковедение, 1999. С. 191–249.
- Богданов К. А. Очерки по антропологии молчания. Homo tacens. СПб.: Изд-во Рус. христиан. гуманит. ин-та, 1998. 352 c.
- Гура А. В. Брак и свадьба в славянской народной культуре: семантика и символика. М.: Индрик, 2012. 936 c.
- Добровольская В. Е. Репрезентация болезней и уродств в русских волшебных сказках // Обратная сторона Луны, или что мы не знаем об инвалидности: теория, репрезентации, практики: сб. ст. / отв. ред. А. С. Курленкова, Е. Э. Носенко-Штейн. М.: ООО «Издательство МБА», 2018. C. 178–220.
- Добровольская В. Е. Сюжет ATU 451 «Братья-лебеди» в репертуаре русских сказочников: фольклорная традиция и западноевропейская «авторская» сказка» // Сказка в фольклоре, литературе и искусстве: традиционное и новое / pед.-сост. Л. В. Фадеева. М.: Гос. ин-т искусствоведения, 2020. С. 121–135.
- Кабакова Г. И. Мать // Славянские древности. Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под ред. Н. И. Толстого. М.: Международные отношения, 2004. Т. 3. С. 203–208.
- Карнаухова И. В. Сказки и предания Северного края / в записях И. В. Карнауховой; вступ. ст. Т. Г. Ивановой. М.: ОГИ, 2009. 544 c.
- Кретов А. И. Воронежские народные сказки и предания / подгот. текстов, сост., вступ. ст. и примеч. Кретова А. И.; Воронеж. гос. пед. ун-т, ист. фак. и др. Воронеж, 2004. 310 с.
- Криничная Н. А. «В тех болотах зыбучиих…»: мифологема блуждания в свете переходных обрядов (по материалам северно-русских мифологических рассказов) // «Уведи меня, дорога»: cб. ст. памяти Т. А. Бернштам / под ред. Н. Е. Мазаловой, И. Ю. Винокуровой, В. А. Лапина, О. М. Фишман. СПб.: МАЭ РАН, 2010. C. 172–180.
- Листова Т. А. «Нечистота» женщины (родильная и месячная) в обычаях и представлениях русского народа // Секс и эротика в русской традиционной культуре / отв. ред. А. Л. Топорков. М.: Ладомир, 1996. C. 151–174.
- Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М.: Наука, 1979. 360 с.
- Лызлова А. В. Cказки о трех царствах (медном, серебряном и золотом) в лубочной литературе и фольклорной традиции // Проблемы исторической поэтики. 2019. Т. 17. № 1. С. 26–44 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1554121813.pdf (01.09.2021). DOI: 10.15393/j9.art.2019.5921
- Мелетинский Е. М. Женитьба в волшебной сказке (ее функция и место в сюжетной структуре) // Мелетинский Е. М. Избранные статьи. Воспоминания. М.: РГГУ, 1998. С. 305–317.
- Мелетинский Е. М. Герой волшебной сказки. Происхождение образа. М.; СПб.: Академия Исследований Культуры, Традиция, 2005. 242 c.
- Невская Л. Г. Молчание как атрибут сферы смерти // Мир звучащий и молчащий. Семиотика звука и речи в традиционной культуре славян / отв. ред. C. М. Толстая. М.: Индрик, 1999. С. 123–134.
- Никифоров А. И. Севернорусские сказки в записях А. И. Никифорова / изд. подгот. В. Я. Пропп. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. 386 с.
- Ончуков Н. Е. Северные сказки: Архангельская и Олонецкая гг. / сборник Н. Е. Ончукова. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1908. XLVIII, 643 с. (Записки императорского Русского географического общества по отделению этнографии; т. 33.)
- Пропп В. Я. Морфология сказки. М.: Наука, 1969. 168 c.
- Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2000. 336 c.
- Русские народные сказки Карельского Поморья / сост. А. П. Разумова, Т. И. Сенькина; ред. И. М. Колесницкая. Петрозаводск: Карелия, 1974. 423 с.
- Русский фольклор в Литве / исследования и публ. Н. К. Митропольской. Вильнюс: Вильнюсский университет, 1975. 432 с.
- Самоделова Е. А. Сказки Центральной России в конце XX — начале XXI веков в записях Е. А. Самоделовой и друзей-фольклористов: тексты. Рязань, 2013. 214 c. (Рязанский этнографический вестник: № 51, т. 1.)
- Сказки И. Ф. Ковалева / запись и коммент. Э. Гофман и С. Минц; ред. Ю. М. Соколова. М.: Изд. Государственного литературного музея, 1941. 358 с. (Летописи государственного литературного музея; кн. 11.)
- Сказки Куприянихи / запись сказок, статья о творчестве Куприянихи и коммент. А. М. Новиковой и И. А. Оссовецкого; вступ. ст. и общ. ред. И. П. Плотникова. Воронеж: Ворон. обл. кн-во, 1937. 270 с.
- Толстая С. М. Магия обмана и чуда в народной культуре // Логический анализ языка. Истина и истинность в культуре и языке / отв. ред. Н. Д. Арутюнова, Н. К. Рябцева. М.: Наука, 1995. С. 109–115.
- Топоров В. Н. Заметки о двух индоевропейских глаголах умирания // Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Погребальный обряд / отв. ред. Вяч. Вс. Иванов, Л. Г. Невская. М.: Наука, 1990. С. 47–53.
- Трубачев О. Н. Молчать и таять. О необходимости семасиологического словаря нового типа // Проблемы индоевропейского языкознания. Этюды по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков / отв. ред. В. Н. Топоров. М.: Наука, 1964. С. 100–105.
- Тэрнер В. Символ и ритуал / сост. и автор предисл. В. А. Бейлис, отв. ред. Е. М. Мелетинский. М.: Наука, 1983. 277 с.
- Фольклор Судогодского края / сост. В. Е. Добровольская, И. А. Морозов, В. Г. Смолицкий; под общ. ред. А. С. Каргина. М.: ГРЦРФ, 1999. 336 с.
- Шумов К. Э., Черных А. В. Беременность и роды в традиционной культуре русского населения Прикамья // Секс и эротика в русской традиционной культуре / отв. ред. А. Л. Топорков. М.: Ладомир, 1996. C. 175–191.
- Ясинская М. В. Глаза и зрение в языке и традиционной народной культуре славян // Славяноведение. 2014. № 6. С. 47–57.
- Bajki Warmii i Mazur / oprac. H. Kurowska. Red. H. Koneczna, W. Pomianowska. Kraków: PWN, 1956. 194 s.
- Ciszewski S. Krakowiacy. Monografia etnograficzna. Kraków: Nakładem autora, 1894. T. 1. Podania, powieści fantastyczne, powieści anegdotycznoobyczajowo-moralne, bajki o zwierzętach, zagadki i łamigłówki. 383 s.
- Eliade M. Inicjacja, obrzędy, stowarzyszenia tajemne, narodziny mistyczne / tł. K. Kocjan. Kraków: Znak, 1997. 190 s.
- Eliade M. Mity, sny i misteria / tł. K. Kocjan. Warszawa: Wydawnictwo KR, 1999. 258 s.
- Engelking A. Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa. Wrocław: FUNNA, 2000. 312 s.
- Federowski M. Lud białoruski na Rusi Litewskiej. Kraków: Akademia Umiejętności, 1897. T. I. 509 s.
- Gawełek F. Przesądy, zabobony, środki lecznicze i wiara ludu w Radłowie w pow. Brzeskim // Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne. 1910. V. 11. S. 48–106.
- Gołębiowska-Suchorska A. Głuchota / głuchy // Słownik polskiej bajki ludowej / red. V. Wróblewska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2018. T. 2. S. 40–44.
- Jorgensen J. Queering Kinship in “The Maiden Who Seeks Her Brothers” // Transgressive Tales: Queering the Grimms. Detroit: Wayne State University Press, 2012. P. 69–90.
- Karłowicz J. Podania i bajki ludowe zebrane na Litwie // Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej. 1887. V. 11. S. 229–293.
- Karłowicz J. Podania i bajki ludowe zebrane na Litwie // Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej. 1888. V. 12. S. 1–59.
- Kolberg O. Dzieła wszystkie. Kujawy. Wrocław: PTL, 1962 (1867). T. 3. Cz. 1. S. 112–144.
- Kolberg O. Dzieła wszystkie. Krakowskie. Wrocław-Poznań: PTL, 1962 (1875). T. 8. Cz. 4. S. 1–87.
- Kolberg O. Dzieła wszystkie. Chełmskie. Wrocław-Poznań: PTL, 1964 (1891). T. 34. Cz. 2. S. 83–127.
- Kolberg O. Dzieła wszystkie. Radomskie. Wrocław-Poznań: PTL, 1964 (1888). T. 21. Cz. 2. S. 172–220.
- Kolberg O. Dzieła wszystkie. W. Ks. Poznańskie. Wrocław-Poznań: PTL, 1982 (1881). T. 14. Cz. 6. S. 3–156.
- Kopernicki I. Gadki ludowe górali beskidowych z okolic Rabki // Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej. 1891. T. 15. S. 10–19.
- Kowerska Z. O chłopakach zaklętych w ptaki // Wisła. 1900. V. 14 (5). S. 600–602.
- Kozłowski K. Lud. Pieśni, podania baśnie, zwyczaje, przesądy ludu z Mazowsza czerskiego wraz z tańcami i melodyami. Warszawa: w drukarni Karola Kowalewskiego, 1869. 388 s.
- Malinowski L. Powieści ludu polskiego… // Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne. 1901. V. 5. S. 3–272.
- Paluch A. Etnologiczny atlas ciała ludzkiego i chorób. Wrocław: Wydawnictwo UWr, 1995. 184 s.
- Polaczek S. Wieś Rudawa. Lud, jego zwyczaje, obyczaje, obrzędy, piosnki, powiastki i zagadki. Warszawa: М. Arcta, 1892. 255 s.
- Siewiński L. Bajki, legendy i opowiadanie ludowe zebrane w pow. Sokalskim // Lud. 1903. V. 9. S. 68–85.
- Sulima R. Słowo i etos. Szkice o kulturze. Kraków: Fundacja Artystyczna Związku Młodzieży Wiejskiej, 1992. 222 s.
- Wasilewski J. S. Podróże do piekieł. Rzecz o szamańskich misteriach. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1979. 241 s.
- Wasilewski J. S. Tabu. Warszawa: Wydawnictwo UW, 2010. 421 s.
- Williams Ch. The Silent Struggle. Autonomy for the Maiden Who Seeks Her Brothers // The Comparatist. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2006. Vol. 30. P. 81–100.