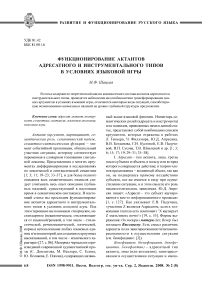Функционирование актантов адресатного и инструментального типов в условиях языковой игры
Автор: Шацкая Марина Федоровна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 2 (8), 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье содержится теоретический анализ компонентного состава актантов адресатного и инструментального типов, проводятся наблюдения над особенностями трансформирования данных аргументов в условиях языковой игры, отмечаются некоторые виды ситуаций, способствующие возникновению аномальных явлений на уровне глубинной структуры предложения.
Адресат, актант, инструмент, семантика, синтаксис, языковые аномалии, языковая игра
Короткий адрес: https://sciup.org/14969335
IDR: 14969335 | УДК: 81.42
Текст научной статьи Функционирование актантов адресатного и инструментального типов в условиях языковой игры
Актант (аргумент, партиципант, семантическая роль, семантический падеж, семантико-синтаксическая функция) – элемент событийной пропозиции, обязательный участник ситуации, которому соответствует переменная в словарном толковании глагольной лексемы. Представления о многих аргументах дифференцированы в исследованиях по лексической и синтаксической семантике [1; 3; 11; 19–23; 33–37], и для более полного описания всех семантических нюансов следует учитывать весь опыт описания глубинных падежей, существующий в настоящее время в семантическом синтаксисе. В настоящей статье мы проследим функционирование актантов адресатного и инструментального типов в условиях языковой игры. Под этим термином мы понимаем «творческое, нестандартное (неканоническое, отклоняющееся от языковой/речевой, в том числе – стилистической, речеповеденческой, логической, нормы) использование любых языковых единиц и/или категорий для создания остроумных высказываний, в том числе – комического характера» [27, с. 86]. Материал черпался из произведений современной художественной прозы (С. Довлатова, М. Веллера, С. Есина, Ю. Полякова, Е. Попова), содержащих назван- ный выше языковой феномен. Инвентарь семантических ролей (адресата и инструмента) и их подвидов, приведенных нами в данной статье, представляет собой комбинацию списков аргументов, которые отражены в работах Л. Теньера, Ч. Филлмора, Ю.Д. Апресяна, В.В. Богданова, Г.И. Кустовой, Е.В. Падучевой, И.П. Сусова, Т.В. Шмелевой и др. [1; 3; 6; 15; 17; 19; 29–31; 35–38].
I. Адресат – тип актанта, лицо, третье после субъекта и объекта, в пользу или во вред которого совершается действие; в теории членов предложения – косвенный объект, так как он, не подвергаясь прямому воздействию субъекта, все же имеется в виду при осуществлении ситуации, и в этом смысле его роль несамостоятельная, зависимая. Ю.Д. Апресян пишет: «Адресат – это субъект каузированного кем-то информационного процесса» [1, с. 127]. Как указывает Е.В. Падучева, «участник Z является Адресатом, если в толковании глагола есть компонент ‘X каузирует Z знать/иметь нечто’» [19, с. 55]. Формы выражения: Он подарил матери дух ; Вечер был посвящен Высоцкому . Есть смысл различать адресаты по их заинтересованности/незаинте-ресованности в осуществлении ситуации (см. бенефициенс: [3]).
Бенефициенс (бенефециант, бенефе-циатив, бенефактив) – адресатный тип актанта, лицо (или коллектив), заинтересованное в осуществлении ситуации и имею- щее в результате ее осуществления выгоду или ущерб (ср.: значения слова бенефис). Е.В. Падучева пишет: «Z – Бенефициант, если в толковании есть компонент ‘Z-у стало лучше’» [19, с. 55]. Формы выражения: Ему вручили премию; Его лишили слова. Термин бенефициенс иногда используется как синоним Адресата.
В условиях языковой игры такой участник ситуации, как Адресат, может быть подвержен внутриролевым (модификационным) перекодировкам в семантической структуре предложения: актантная характеристика остается прежней, меняются лишь отдельные ее составляющие (например, положительная характеристика становится отрицательной). Это связано с переменой лексической семантики: сакральное имя Бог в следующем далее контексте не актуализирует ни одного из своих кодифицированных в современных словарях значений (ср.: Бог – ‘верховная сущность, обладающая высшим разумом, абсолютным совершенством, всемогуществом, сотворившая мир и управляющая им’ [32, с. 80]; ‘в религии: верховное всемогущее существо, управляющее миром или (при многобожии) одно из таких существ; в христианстве: триединое божество, творец и всеобщее мировое начало; предмет поклонения, обожания’ [18, с. 52]), но поглощает некоторые их семы – ‘о человеке’, ‘управляющий чем-либо’, ‘имеющий власть, возможность влиять на что-либо’, ‘стоящий на вершине власти’, ‘объект поклонения’ в связи с занимаемой высокопоставленной должностью. Последующий контекст разъясняет такую трансформацию: 1) при помощи объектного актанта – Резуль-татива (заболевание алкоголизмом); 2) соотнесенностью с определенной личностью, чья роль в истории России трактуется большинством ученых отрицательно:
-
1) Писание на Бога и на газету – при формальном родстве профессии принципиально разные, смешивание их дает питательную среду для графомании и алкоголизма [4, с. 29]; 2) Присутствовавший на похоронах малолетний Башмаков был потом некоторое время убежден в том, что его усопшая бабушка печатала бумаги для самого Бога , и даже доказывал это своим уличным дружкам... Отец строго разъяснял сыну, что печатала бабушка не для Бога , а для Сталина, который хоть и генералис-
- симус, но, если верить статье в «Правде», совсем не Бог, а скорее даже – черт [24, с. 69].
Корреляция «целое и часть» (отношения партитивности) связывает имя некоторого объекта с именами его составных частей 1. Среди частных случаев данной корреляции выделяют отношение между словом, обозначающим некоторую единую, хотя и сложную по своему составу сущность, и словом, обозначающим квант, элемент или член этой сущности; отношение между именем некоторого иерархически организованного множества, рассматриваемого как целое (собирательная множественность в противовес обычной), и именем главного элемента этого множества (см. об этом: [13; 14; 17; 26]). Нарушение партитивных отношений происходит в связи с искажением логических законов: часть не может быть противопоставлена целому, часть обладает всеми признаками целого, целое состоит из частей. Однако языковая игра строится именно на данных языковых и логических аномалиях (целое исключает часть) – Коагенс становится Бенефициенсом:
Рядовые – это не начальство, а начальство всегда с удовольствием сдавало младших . Это свидетельствовало о его принципиальности и верности закону. Своих, дескать, не жалко [9, с. 331].
Наличие модификационной перекодировки возможно и для Бенефициенса (положительная характеристика меняется на отрицательную), при этом участник Отрицательное последствие выступает в квазироли Жалованье вследствие метонимического переноса ( наряд – ‘воинское задание, поручаемая военнослужащему работа’ [18, с. 392]; наряды вне очереди обычно используются как вид наказания в воинских частях):
Первым моим гонораром явились, таким образом, пять нарядов вне очереди [5, с. 175].
-
II. Инструмент (орудие) – актант, обозначающий предмет, использование которого способствует осуществлению ситуации. Формы выражения: Он ударил по столу кулаком ; Чай вскипятили на плите ; Он выстрелил из пистолета ; Добирайтесь автобусом или на метро . Е.В. Падучева пишет:
«Инструмент – это участник Z, такой что Z воздействовал на Y, причем существует Агенс, который привел Z в действие для достижения своей цели (то есть использовал Z)» [19, с. 55].
Средство (медиатив) – актант инструментального типа, предмет, точнее вещество, расходуемое при осуществлении ситуации: Дорожки посыпали песком ; Скульптура сделана из бронзы . «Формы со значением инструмента отличаются от форм со значением средства тем, что использование средства приводит к его расходованию, “связыванию” (его все меньше остается в свободном состоянии), в то время как применение инструмента оставляет его в несвязанном состоянии. О принципиальном различии этих форм свидетельствует и то обстоятельство, что они соподчинимы, то есть занимают “разные позиции”» [1, с. 128]. Итак, если сторож наполнял бассейн водой из шланга, то вода – Средство – остается в бассейне (в связанном состоянии), тогда как шланг – Инструмент – будет убран [19, с. 55]. При одном глаголе участники с ролью Инструмент и Средство не могут быть выражены одновременно, если они оба требуют творительного падежа ( писать письмо авторучкой синими чернилами ).
Инструмент и Средство всегда служебные, вспомогательные участники ситуации, но они могут занимать позицию подлежащего, хотя и не всегда, что будет зависеть от лексико-семантической отнесенности и видовой принадлежности глагола: краска красит, клей клеит, но не вода моет грязь. Инструментальное значение синтаксического субъекта – это фрагмент исходной ситуации. В нем используются гомогенные процессы, но не активизируются накопительные: действие Инструмента не направлено на достижение результата, у Инструмента, в отличие от Агенса, нет цели. Средство воздействует не за счет энергии движения (как Инструмент), а за счет специальных свойств (мазь смягчает или лечит, йод дезинфицирует и т. д.). Инструментальные и медиативные значения обычно неактуальны, так как ни у Инструмента, ни у Средства нет собственной энергии (исключение: Инструмент может обладать собственной энергией, получаемой, например, «из розетки» – (электро)кофемолка смолола кофе, комбайн вспахал поле, моечная машина вымыла посуду, принтер напечатал 10 страниц), поэтому позиция синтаксического субъекта нетипична для них, аномальна. Инструмент при наличии Средства выполняет чисто служебную функцию: он способствует перемещению Средства к Пациенсу. Если Агенс достигает результата за счет типа воздействия Инструмента – акцент на Инструменте, и у глагола возможно инструментальное значение (нож режет, игла колет); если за счет свойств (типа воздействия) Средства – акцент на средстве, и у глагола возможно медиальное значение. Если в каузативном блоке есть оба вспомогательных участника, главный все равно один – Средство (см. об этом подробнее: [15]).
В работе А.М. Мухина прослеживается зависимость синтаксического варьирования инструментальных и медиативных син-таксем от разного вида факторов – лексических, морфологических, структурно-синтаксических [16].
Некоторые лингвисты, такие как В.А. Бе-лошапкова, Е.В. Муравенко, Т.В. Шмелева [2; 38], предлагают выделять еще один актант инструментального типа – Орудие – предмет, специально предназначенный для инструментального использования (ср.: Он забил гвоздь молотком и Он забил гвоздь башмаком ). Выделение орудия как особого актанта важно, считают исследователи, так как его значение бывает инкорпорировано (включено) в значение предиката и получает выражение при необходимости квалифицировать действие или орудие: пилить новенькой пилой . В настоящей статье мы не будем проводить такую дифференциацию, так как для условий языковой игры она неоправданна.
Ю.Д. Апресян пишет: «Формы со значением средства и особенно инструмента внешне очень сходны с формами, обозначающими орган или активную, рабочую часть субъекта (натирать рукой, нож режет хлеб лезвием), но внутренне существенно отличаются от них. Орган – связанная часть субъекта (или объекта), а инструмент и средство – отдельные предметы, органически с субъектом не связанные. Формы, обозначающие рабочую часть субъекта (а также его свойства), реализуют субъектную же, а не инструментальную валентность слова» [1, с. 128–129]. Однако языковая игра, имеющая прямое отношение к понятиям норма/анома-лия, может стирать разграничения названных противоречий.
Инструмент в условиях языковой игры может выступать в квазироли Агенса (стилистически присутствие тропа – олицетворение):
Я належал килограммов двадцать. Зеркало пугнуло распухшим бомжем [4, с. 34];
а потенциальный Коагенс (подчиненные) может претендовать на квазироль Инструмента (при контекстуальной дейктической замене некого ):
Я пошел в домоуправление. Поговорил с начальником Михеевым. Человек он был приветливый и добродушный. Пожаловался:
– Подчиненных у меня – двенадцать гавриков, а за вином отправить некого... [8, с. 391].
В условиях языковой игры в квазироли Инструмента может выступать участник Вещь:
Я и сейчас одет неважно. А раньше одевался еще хуже... Вспоминаю, как директор Пушкинского заповедника говорил мне:
– Своими брюками , товарищ Довлатов, вы нарушаете праздничную атмосферу здешних мест... [там же, с. 382].
Как известно, Инструмент обозначает предмет, способствующий осуществлению той или иной ситуации, из чего следует, что ситуация не может находиться в оппозиции к Инструменту. Однако языковая игра рождает другую пропозитивную картину: безработица согласуется с прогрессом, подъем экономики – с войной. Такое синтагматическое объединение противоречит закону синсемич-ности, предполагающему наличие общей син-тагмемы 2 у двух сочетающихся слов. В нашем случае наоборот, словарные дефиниции названных выше слов отражают семы либо противоположные друг другу (имплицитно или эксплицитно), либо не согласующиеся в связи с разной тематической отнесенностью, ср.: безработица – значение ‘экономическое явление, типичное для капиталистического общества, когда часть трудящихся не находит применение своему труду’ [28, т. 1, с. 75] не подтверждается контекстом, хотя именно такая семантика отражалась в словарях того времени, когда было создано данное художественное произведение; еще одно значение названной выше лексемы – ‘наличие безработных’ [18, с. 41] больше согласуется с контекстуальным в связи с имеющей место обобщенностью; стимул – ‘побудительная причина, заинтересованность в совершении чего-либо’ [28, т. 4, с. 266]; прогресс – ‘направление развития от низшего к высшему, движение вперед, совершенствование’ [там же, т. 3, с. 477]; поднять – ‘наладить, поправить что-либо пришедшее в упадок, расстройство и т. п.’ [там же, с. 202]; война – ‘организованная вооруженная борьба между государствами или общественными классами’ [там же, т. 1, с. 203]:
Калинин, например, утверждает, что безработица – стимул прогресса. А то все знают, что их не уволят. А если и уволят, то не беда. Перейдет через дорогу и устроится на соседний завод. То есть можно прогуливать, злоупотреблять... Калинин вряд ли подойдет. Уж слишком прогрессивный... А Мер-кин тот вообще. Его спрашивают, что может резко поднять нашу экономику? Отвечает – война . Война , и только война. Война – это дисциплина, подъем сознательности. Война любые недостатки спишет [8, т. 1, с. 309].
Квазироль Инструмента при метафорическом переносе занимает актант, который может представляться исключительно одушевленным именем:
Редактора исключили, восстановили, и он подозрительно быстро сделал оглушительную партийную карьеру по линии досок и фанеры, очевидно, с помощью невидимых миру крепких «подводных крыльев» [25, с. 88].
Субъект и Адресат неравнозначны в выборе синтагматических партнеров, что обусловлено отношением коммуникантов к сложившейся ситуации общения. Это ведет к возможной реализации разных валентностей имплицитного предиката ударить – ‘нанести кому-либо удар, причинив боль’ [28, т. 4, с. 464] – Лева/чем? , участник Инструмент ботинок ; я/за что? , участник Причина:
Лева стал разглядывать мой глаз.
– Чем это тебя? – спрашивает.
Всех, подумал я, интересует – чем ? Хоть бы один поинтересовался – за что ?
– Ботинком, – говорю [8, т. 3, с. 461].
Актанты адресатного типа могут подвергаться внутриролевым (модификационным) перекодировкам под воздействием других компонентов семантической структуры предложения или за счет влияния пресуппозиции (опоры на фоновые знания индивида). Нарушение логических законов в партитивных отношениях создает аномальную синтагматику, что согласуется с целью языковой игры – созданием комического эффекта.
Как аргументы инструментального типа могут выступать в квазиролях, так и квазироль Инструмента могут брать на себя актанты других типов. Нарушение логических законов в семантической синтагматике определяется прежде всего алогизмом синтагматики лексической, но именно на этом противоречии может базироваться языковая игра.
Список литературы Функционирование актантов адресатного и инструментального типов в условиях языковой игры
- Апресян, Ю. Д. Лексическая семантика: синонимические средства языка/Ю. Д. Апресян. -М.: Наука, 1974. -368 с.
- Белошапкова, В. А. Способы выражения инструментального значения в русском языке/В. А. Белошапкова, Е. В. Муравенко//Русский язык за рубежом. -1985. -№ 6. -С. 78-83.
- Богданов, В. В. Семантико-синтаксическая организация предложения/В. В. Богданов. -Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1977. -208 с.
- Веллер, М. Долина идолов/М. Веллер. -М.: Изд-во АСТ, 2006. -544 с.
- Веллер, М. Хочу быть дворником/М. Веллер. -М.: Изд-во АСТ, 2007. -384 с.
- Гак, В. Г. К проблеме синтаксической семантики/В. Г. Гак//Инвариантные синтаксические значения и структура предложения/под ред. Н. Д. Арутюновой. -М.: Наука, 1969. -С. 78-84.
- Гак, В. Г. Языковые преобразования/В. Г. Гак. -М.: Шк. «Яз. рус. культуры», 1998. -768 с.
- Довлатов, С. Собрание сочинений: в 4 т./С. Довлатов. -СПб.: Азбука-классика, 2005.
- Есин, С. Н. Ах, заграница, заграница...: романы/С. Н. Есин. -М.: Дрофа, 2006. -431 с.
- Золотова, Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса/Г. А. Золотова. -М.: КомКнига, 2006. -368 с.
- Золотова, Г. А. Очерк функционального синтаксиса/Г А. Золотова. -М.: КомКнига, 2005. -352 с.
- Золотова, Г. А. Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса/Г. А. Золотова. -М.: Наука, 1988. -440 с.
- Кобозева, И. М. Лингвистическая семантика: учебник/И. М. Кобозева. -М.: КомКнига, 2007. -352 с.
- Кронгауз, М. А. Семантика: учебник/М. А. Кронгауз. -М.: Издат. дом «Академия», 2005. -352 с.
- Кустова, Г. И. Типы производных значений и механизмы языкового расширения/Г. И. Кустова. -М.: Яз. слав. культуры, 2004. -472 с.
- Мухин, А. М. Вариантность синтаксических единиц/А. М. Мухин. -СПб.: Наука, 1995. -240 с.
- Никитин, М. В. Основы лингвистической теории значения: учебник/М. В. Никитин. -М.: Высш. шк., 1988. -168 с.
- Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка/С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. -4-е изд., доп. -М.: ООО «А ТЕМП», 2007. -944 с.
- Падучева, Е. В. Динамические модели в семантике лексики/Е. В. Падучева. -М.: Яз. слав. культуры, 2004. -608 с.
- Падучева, Е. В. Коммуникативное выделение на уровне синтаксиса и семантики/Е. В. Падучева//Семиотика и информатика. -М.: Яз. рус. культуры: Рус. слов., 1998. -Вып. 36, № 5. -С. 82-107.
- Падучева, Е. В. Семантические роли и проблема сохранения инварианта при лексической деривации/Е. В. Падучева//НТИ. Сер. 2. -1997. -№ 1. -С. 18-30.
- Плунгян, В. А. Парадоксы валентностей/В. А. Плунгян, Е. В. Рахилина//Семиотика и информатика. -М.: Яз. рус. культуры: Рус. слов., 1998. -Вып. 36. -С. 108-119.
- Плунгян, В. А. Сирконстанты в толковании?/В. А. Плунгян, Е. В. Рахилина//Metody formalne w opisie językόw slowiańskich/Z. Saloni (red.). -Białystok, 1990. -S. 201-210.
- Поляков, Ю. М. Треугольная жизнь: романы, повесть/Ю. М. Поляков. -М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2007. -682 с.
- Попов, Е. Подлинная история «Зеленых музыкантов»/Е. Попов. -М.: Вагриус, 2001. -336 с.
- Рыжук, Н. С. Коррелятивные отношения части и целого: семантический и лингвокультурологический аспекты: автореф. дис.... канд. филол. наук/Н. С. Рыжук. -Ставрополь, 2008. -22 с.
- Сковородников, А. П. О понятии и термине «языковая игра»/А. П. Сковородников//Филологические науки. -2004. -№ 2. -С. 79-87.
- Словарь русского языка: в 4 т./под ред. А. П. Евгеньевой. -2-е изд., испр. и доп. -М.: Рус. яз., 1981-1984.
- Сусов, И. П Введение в языкознание/И. П Су-сов. -М.: АСТ: Восток -Запад, 2007. -379 с.
- Сусов, И. П. Семантическая структура предложения (на материале простого предложения в современном немецком языке)/И. П. Сусов. -Тула, 1973. -141 с.
- Теньер, Л. Основы структурного синтаксиса/Л. Теньер. -М.: Прогресс, 1988. -656 с.
- Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения/под ред. Г. Н. Скляревской. -М.: ООО «Изд-во "Астрель"»: ООО «Изд-во АСТ», 2001. -944 с.
- Успенский, В. А. К понятию диатезы/В. А. Успенский//Проблемы лингвистической типологии и структуры языка. -Л.: Наука, 1977. -С. 65-83.
- Филиппенко, М. В. Адвербиалы с плавающей и фиксированной сферой действия/М. В. Филиппенко//Семиотика и информатика.-М.: Яз. рус. культуры: Рус. слов., 1998. -Вып. 36. -С. 120-140.
- Филлмор, Ч. Дело о падеже/Ч. Филлмор//Новое в зарубежной лингвистике/ред. В. А. Звегинцев. -М.: Прогресс, 1981. -Вып. X. -С. 369-495.
- Филлмор, Ч. Дело о падеже открывается вновь/Ч. Филлмор//Новое в зарубежной лингвистике/ред. В. А. Звегинцев. -М.: Прогресс, 1981. -Вып. X. -С. 496-530.
- Филлмор, Ч. Основные проблемы лексической семантики/Ч. Филлмор//Новое в зарубежной лингвистике/ред. В. А. Звегинцев. -М.: Прогресс, 1983. -Вып. XII. -С. 72-122.
- Шмелева, Т. В. Семантический синтаксис: текст лекций из курса «Современный русский язык»/Т. В. Шмелева. -Красноярск: Изд-во Крас-нояр. ун-та, 1988. -54 с.