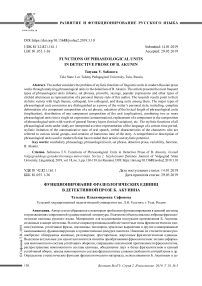Функционирование фразеологических единиц в детективной прозе Б. Акунина
Автор: Сафонова Татьяна Владимировна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 3 т.18, 2019 года.
Бесплатный доступ
Автор статьи обращается к некоторым проблемам функционирования языковой системы в произведениях современной художественной литературы. В качестве объекта анализа избраны фразеологические единицы русского языка. Материалом для исследования послужили произведения Б. Акунина, созданные в жанре детектива. В статье охарактеризованы наиболее частотные типы фразеологических единиц (идиомы, устойчивые фразы, пословицы, поговорки, крылатые выражения и другие клишированные высказывания), функционирующих в художественном дискурсе писателя. Показано их стилистическое разнообразие: обнаружены книжные, разговорные, просторечные, жаргонные фразеологические единицы. Выделены актуальные для идиостиля писателя способы преобразования фразеологизмов: полная деформация компонентного состава устойчивых оборотов, сокращение лексической протяженности фразеологизма, распространение компонентного состава единицы, объединение двух и более фразеологизмов в единый устойчивый оборот, замена компонентного состава фразеологизма словами свободного употребления и др. Определены стилистические функции фразеологического материала, использованного Б. Акуниным в детективах: воспроизведение языка изображаемой эпохи, в том числе передача оттенков разговорной речи, речевая характеристика персонажей, относящихся к разным социальным слоям, создание юмористического контекста. Комплексное описание фразеологизмов, употребленных в современной беллетристике, позволило выявить их художественный потенциал.
Лексика, фразеология, фразеологическая единица, устойчивая фраза, детективная проза, варьирование, функционирование, б. акунин
Короткий адрес: https://sciup.org/149129981
IDR: 149129981 | УДК: 81'42:821.161.1 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2019.3.10
Текст научной статьи Функционирование фразеологических единиц в детективной прозе Б. Акунина
DOI:
В литературе Новейшего времени особое место занимает детективная проза. Ее востребованность в художественной практике постмодернизма определяется как внутренней природой данного жанра, так и спецификой современной читательской аудитории.
Детективу в его классическом понимании свойственны стереотипность структуры (завязка – преступление; кульминация – расследование; развязка – разоблачение преступника); наличие рациональных способов решения детективной загадки, доступных читателю, и интересных для него образов сыщика и преступника; отсутствие пространных описаний, литературных отступлений; динамичный и интригующий сюжет [Марусенко, Скребцо-ва, 2013]. Основная, развлекательная, функция детектива определяет его принадлежность к так называемой массовой (популярной) литературе, целевая аудитория которой – читатель, стремящийся погрузиться в увлекательный и достаточно легкий сюжет, нежели разбираться в хитросплетениях человеческих судеб и философских размышлениях авторов классических произведений. Однако современный читатель становится все более искушенным, все труднее его заинтересовать, удивить. Стремясь максимально расширить потенциальную аудиторию, писатели-постмодернисты раздвигают канонические рамки детективного жанра, трансформируют общепринятую жанровую модель, выходя за горизонты читательских ожиданий.
Наиболее ярко данная тенденция проявляется в творчестве Б. Акунина. Элитарный детектив – так определяют жанр прозы Б. Акунина многие критики и литературоведы (см., например: [Снигирева, Подчиненов, Снигирев, 2017]) , выделяя следующие особенности «но- вого дискурса» писателя: «синтез элементов массовой литературы (клишированность, фор-мульность) с постмодернистскими приемами (интертекстуальность, ирония, пародийность, игровые контаминации с жанровыми схемами)» [Осьмухина, 2016, с. 133], реализация принципа «двойного кодирования», под которым подразумевается своеобразная «модель чтения» (совокупность норм, правил трактовки произведения), позволяющая адресовать детектив широкому кругу читателей; «достоверность воссоздания языковых реалий изображаемой эпохи», «повышенная семиотическая нагрузка текстов» [Амусин, 2009, с. 5].
Изысканность стиля детективов Б. Акунина, аутентичность языку эпохи, смысловая насыщенность во многом достигаются посредством широкого обращения к фразеологическим ресурсам языка. Однако лингвистическое изучение фразеологической составляющей дискурса Б. Акунина только начинается: к проблеме использования в прозе писателя фразеомоделей с семантикой обусловленности обращалась С.С. Сафонова [Сафонова, 2008], вопросу трансформации фразеологических единиц в аспекте языковой стратегии массовой литературы на материале цикла «Нефритовые четки» посвящено исследование Е.Н. Ермаковой и М.В. Прокоповой [Ермакова, Прокопова, 2013], специфика употребления фразеологизмов в произведениях писателя рассматривалась также Н.И. Максимовой и Л.Н. Корниловой на материале «Кладбищенских историй» [Максимова, Корнилова, 2018]. Дальнейшее исследование фразеологии прозы Б. Акунина, на наш взгляд, остается весьма актуальным, поскольку позволяет внести определенный вклад в разработку приоритетных задач современной лингвистики: выявление направлений развития фразеологической системы, описание специ-
РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ фики языка художественных произведений Новейшего времени, изучение феномена языковой личности и др.
Цель данной работы заключается в описании и систематизации фразеологизмов, функционирующих в детективной прозе Б. Акунина, что предполагает установление частотных типов устойчивых единиц, их характеристику с точки зрения синтаксической модели и стилистической окраски, выявление продуктивных способов преобразования фразеологизмов, определение их стилеобразующей функции. Данной целью обусловлено широкое обращение к иллюстративному материалу, базой для которого послужили трилогия «Провинциальный детектив» и цикл «Приключения магистра».
Типы фразеологизмов, функционирующих в детективах Б. Акунина
В исследуемых произведениях представлены устойчивые единицы следующих типов (подробно о разграничении этих типов см.: [Бондаренко, 2011]): 1) собственно фраземы : сломя голову , ни жив ни мертв , курам на смех , с глазу на глаз , сойти с рук , наломать дров , ни свет ни заря , ни сном ни духом , семи пядей во лбу , одного поля ягода , пришло в голову , перегнуть палку и др.; 2) устойчивые фразы (пословицы, поговорки, афоризмы, клишированные выражения): Рука руку моет ; Камня на камне не оставит ; За морем телушка полушка, да рубль перевоз ; Дареному коню в зубы не смотрят ; Мал золотник да дорог ; Все хорошо, что хорошо кончается ; Рыба с головы гниет ; Брань на вороту не виснет ; Вот бог, а вот порог ; Лучше меньше, да лучше и др.
С точки зрения функционально-стилистической принадлежности наиболее частотными являются разговорные фразеологизмы (98 из 214 зарегистированных): как рыба в воде, скатертью дорога, нем как рыба, кусок в горло не лезет, лиха беда начало, ума не приложу, держать ухо востро, утро вечера мудренее, ставить палки в колеса, уносить ноги, родиться в рубашке, вить веревки, выйти сухим из воды; а также просторечные (54 единицы): хоть волком вой, в омут с головой, метр с кеп- кой, на козе не объедешь, не бери в голову, лезть на рожон; реже встречаются жаргонизмы (32 единицы): взять на фу-фу, слить по безналу, варить бабки, гнать туфту, поехали мозги, повело в глюки, полоскать капусту, поехала крыша и др.; книжные выражения (30 единиц): Все в руце Божьей, быть или не быть, троянский конь, парит на облацех, А завтра – целый мир, канули в Лету, гордиев узел.
Способы модификации фразеологических единиц
Отличительная черта идиостиля писателя – частое обращение к фразеологическим единицам (далее – ФЕ) как в их исходной, словарной форме, так и в преобразованном виде. Ср.: «Образность и высокая литературность языка прозы Б. Акунина обеспечивается не только свойственной ей интертекстуальностью – насыщенностью цитатами и отсылками к известным текстам, но и активным использованием переосмысленных и окказиональных фразеологических единиц» [Ермакова, Прокопова, 2013, с. 273].
Способы модификаций ФЕ в текстах Б. Акунина разнообразны и отражают практически весь преобразовательный потенциал фразеологии, охарактеризованный в лингвистике (см., например: [Бондаренко, 2011; Мо-киенко, 2012]).
Полная деформация – употребление отдельных компонентов ФЕ в качестве смыслового центра фразы, структурно отличающейся от исходной:
-
(1) Эх, несчастные люмпены. Щепки, отлетевшие от топоров рыночных лесорубов (Внеклассное чтение, с. 59);
-
(2) Слыхал, что с любопытной Варварой приключилось (Внеклассное чтение, с. 125);
-
(3) Давайте только факты, аргументы потом (Внеклассное чтение, с. 263);
-
(4) Какое из этих двух зол меньшее – очевидно (Внеклассное чтение, с. 246);
-
(5) «Коля, заказывай музыку – Влад Соловьев исполнит» (Алтын-толобас, с. 193);
-
(6) Худшая беда у них тут – не дураки и дороги, а тотальное хамство (Сокол и Ласточка, с. 39);
-
(7) Что и у других наших висяков по богатым, которые больше не плачут (Внеклассное чтение, с. 103).
Экспликация – расширение компонентного состава ФЕ:
-
(8) ...Грести бабки совковой лопатой (Алтын-толобас, с. 193);
-
(9) Жизненная мельница все перемелет, была мука, а останется одна мука (Алтын-толобас, с. 125);
-
(10) Ключевая пословица москвича: не имей сто рублей (все равно не деньги), а имей сто друзей (ФМ, т. 1, с. 81);
-
(11) ...Запускать слона в посудную лавку (Пелагия и черный монах, с. 83);
-
(12) ...Отправиться за сотни верст киселя хлебать (Внеклассное чтение, с. 560);
-
(13) Дело медлилось за малым (Внеклассное чтение, с. 55);
-
(14) Мал да удал, везде побывал, все повидал (Внеклассное чтение, с. 75).
Контаминация – объединение ФЕ, частей (компонентов) двух и более фразеологизмов в одну единицу:
-
(15) О, великий и могучий, сам черт в тебе ногу сломит (Внеклассное чтение, с. 365);
-
(16) Понадеялся на справную охрану или русский авось – пеняй на себя (Пелагия и белый бульдог, с. 158);
-
(17) Двум смертям не бывать, а под лежачий камень – сами знаете (Пелагия и красный петух, с. 289);
-
(18) Не посыпаем голову пеплом, а фиксируемся на позитиве (Алтын-толобас, с. 125).
Лексическое варьирование – замена одного или нескольких компонентов в составе ФЕ словами свободного употребления:
-
(19) Долг платежом зелен (Алтын-толобас, с. 192);
-
(20) Дело пахнет крематорием (Алтын-толо-бас, с. 246);
-
(21) Всякой плоти по паре (Пелагия и красный петух, с. 90);
-
(22) Ахиллесов каблук (Пелагия и красный петух, с. 133);
-
(23) Этакого прозаика на мякине не проведешь (Пелагия и черный монах, с. 67);
-
(24) Волкова ноги кормят (Внеклассное чтение, с. 233).
Импликация – сокращение компонентного состава ФЕ:
-
(25) Но, как говорится, бодливой корове (Внеклассное чтение, с. 445);
-
(26) Око за око (Пелагия и красный петух, с. 352);
-
(27) Сколько веревочке не виться (Пелагия и красный петух, с. 352);
-
(28) «Да-с, на всякого мудреца»,– признался Порфирий Петрович (ФМ, т. 1, с. 117);
-
(29) На ловца и зверь (ФМ, т. 2, с. 271);
-
(30) Но игра стоит... (Алтын-толобас, с. 112);
-
(31) С мужчинами так и надо. Знаете, бисер перед свиньями (Внеклассное чтение, с. 204);
-
(32) Вот уж воистину: устами младенца (Внеклассное чтение, с. 89).
Вычленение компонентов из состава ФЕ, функционирующих на правах самостоятельного фраземного знака или лексемы:
-
(33) ... Пройти огонь с водой (Пелагия и черный монах, с. 407);
-
(34) Это бы еще ладно, но ложкой дегтя было то, что подослала денежную клиентку все та же Алтын (Внеклассное чтение, с. 22);
-
(35) Дай Бог, своих, родных уберечь, а чужую паству, да еще из паршивых овец состоящую, мне ненадобно (Пелагия и черный монах, с. 207);
-
(36) Еще раз о быке и Юпитере (ФМ, т. 1, с. 73);
-
(37) Мы за гуж беремся (Пелагия и белый бульдог, с. 165).
Экспликация внутренней формы – раскрытие посредством контекста образного представления, ситуации, послужившей основой для создания устойчивой единицы:
-
(38) Верховой боярин подъехал ближе, встал подле арапа. Теперь можно было разглядеть и лицо: резкие, сухие черты, нос с горбинкой, а брови при седой бороде черные. По всему видно, большой важности человек. Корнелиус покосился на вельможу. Кланяться, lomati schapku или нет? По воинскому уставу на учениях необязательно. Ну, раз необязательно – так и нечего (Алтын-толобас, с. 124);
-
(39) Простонародье глазеет, как баре безо всякого смысла шпацируют по аллее взад и вперед, потешается. Даже новые словечки появились: «лодеря гонять» и «лодерничать (Внеклассное чтение, с. 444).
Авторская этимология – раскрытие внутренней формы с опорой не на научное, общеязыковое осмысление, а индивидуальное восприятие, что часто обусловлено содержанием текста:
-
(40) Поди-ка, возьми его с поличным. Чуть что – раз, и концы в воду. Кстати сказать, это про
РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ них, «разинцев», поговорка придумана, только остальному народу невдомек. «Концами» называют добычу. А вода – вон она, за бортом плещется. Запалился – кидай «концы» в воду, и нипочем не докажут, Река-матушка всё спрячет (Внеклассное чтение, с. 22);
-
(41) – Я леплю горбатого? – переспросил Фандорин, сделав обиженное лицо. <...> Интересна этимология выражения про «горбатого». Почти не вызывает сомнения, что оно недавнего происхождения и связано с Михаилом Горбачевым, который у русских заработал репутацию болтуна и обманщика. Надо будет потом записать (Алтын-толобас, с. 124).
Окказиональные ФЕ – образные авторские единицы, для создания которых Б. Акунин опирается, как правило, на узуальные устойчивые выражения, преобразуя их структуру и семантику:
-
(42) Одним махом двух нимф услаждахом (Внеклассное чтение, с. 22);
-
(43) Значит, ваш подзащитный – невинная овечка, даже не подозревавшая, какого волка пригрела под своей шкуркой (Пелагия и белый бульдог, с. 234);
-
(44) Позвольте представиться: Ново-Араратский Сатана. Я прислан сюда взболтать тихий омут, повыпускать чертей, которые водятся здесь в изобилии (Пелагия и черный монах, с. 309);
-
(45) Чтобы Божье стадо с паршивыми овцами не смешивалось, существуем мы, Божьи овчарки (Пелагия и красный петух, с. 211);
-
(46) ...Вопль содомский и гоморский (Пелагия и белый бульдог, с. 146);
-
(47) У, затворники, старосветские помещики! Визит Магомета к горе! (Внеклассное чтение, с. 377);
-
(48) Понастроите турусов на колесах, где не надо бы, да и сами под эти колеса и угодите (Внеклассное чтение, с. 377);
-
(49) Хотела бы боднуть, да Бог рога не дал? А коли так, нечего было на корриду лезть, корова ты безрогая (Пелагия и черный монах, с. 407);
или используя парафразу:
-
(50) Запретный плод. <...> По виду на разбивателя сердец никак не похожа, но раз интересуется неразрешенными фруктами... (Внеклассное чтение, с. 258).
Комбинированное (комбинаторное) варьирование – использование одновременно нескольких способов преобразования исходной единицы:
РУССКОГО ЯЗЫКА
-
(51) Нечего лезть с английским уставом в русский монастырь (ФМ, т. 2, с. 53);
-
(52) В тихом омуте завелись нешуточные черти (Пелагия и белый бульдог, с. 157);
-
(53) Нет повести банальнее на свете... (Внеклассное чтение, с. 560);
-
(54) Для него я – обычная хорошенькая женщина (вероятно, на здешнем безрыбье) (Пелагия и черный монах, с. 287);
-
(55) Нечего и говорить, что с такой репутацией, как у Бубенцова, да еще на провинциальном безрыбье... (Пелагия и белый бульдог, с. 48).
В примере (51) осуществлена экспликация и лексическая мена компонентов; в (52) – экспликация и грамматическое изменение глагольного компонента; в (53) – сокращение и экспликация; в (54) и (55) – вычленение компонента из состава устойчивой фразы с его последующим распространением.
Стилистические функции фразеологических единиц
Широкое использование ФЕ в детективах Б. Акунина обусловлено рядом стилистических задач. Прежде всего фразеологизмы позволяют автору более точно воссоздать язык описываемой эпохи . По нашим наблюдениям, на долю исторического повествования приходится большая часть устаревших с точки зрения современного употребления устойчивых единиц, а также оборотов с архаичными грамматическими формами. Например:
-
(56) Молитвы – и той прочесть не успел. Все в руце Божьей (Алтын-толобас, с. 120);
-
(57) Капитану, поди, там, наверху, кажется, что он не капитан, а Господь Бог Саваоф, и не на «Севрюге» плывет, а парит на облацех (Пелагия и красный петух, с. 10);
-
(58) Как говорится, из свиного хвоста ермолки не сошьешь (Пелагия и красный петух, с. 297);
-
(59) – Послушайте, вы, врачу-исцелися-сам! – грозно выкатил он глаза (Пелагия и черный монах, с. 113);
-
(60) Пробует Степан Трофимычу помогать, да только проку от него, как от монашки приплоду (Пелагия и белый бульдог, с. 89);
-
(61) Нет чтобы девушку просто обнять и поцеловать. Идиот! Сидел по-над просом, да остался с носом (Пелагия и белый бульдог, с. 148);
-
(62) У царя дьяк, у дьяка хряк. Вот кто истинно империей-то правит. Никуда без него, вертлявого, не двинешься (Внеклассное чтение, с. 67);
-
(63) Ничего, ничего, утро вечера мудреней. Что ночью страх, то утром прах (Внеклассное чтение, с. 185);
-
(64) – Смесьно, – подтвердил Митя. Животики надорвешь. Ничтоже ново под солнцем. Иже возгла-голет и речет: се, сие ново есть, уже бысть в вецех, бывших прежде нас (Внеклассное чтение, с. 279).
Описание приключений героев в России 90-х гг. не мыслится без соответствующей идиоматики – арготических элементов, а также жаргонных, просторечных и грубо-просторечных устойчивых оборотов, появившихся в языке перестроечного и постперестроечного периода. Например:
-
(65) Николас положил неприятному человеку руку на плечо, сильно стиснул пальцы и произнес нараспев: – Борзеешь, вша поднарная? У папы крысячишь? Ну, смотри, тебе жить (Алтын-толо-бас, с. 50);
-
(66) –Братан, братан... – зашептал он губами и попытался встать, но Фандорин стиснул пальцы еще сильней. – Я же не знал... В натуре не знал! Я думал, лох заморский (Алтын-толобас, с. 51);
-
(67) Первое чувство, которое испытал Фандорин, – не изумление, а абсурдная радость от того, что похититель кейса нашелся. Абсурдная – потому что чему тут радоваться, если от потрясения и сотрясения у человека поехали мозги (отличное идиоматическое выражение из фольклорного блокнота) и его повело в глюки (оттуда же) (Алтын-толобас, с. 87);
-
(68) Мы ведь с тобой не знаем, до какой степени у них на этой Либерее поехала крыша – похоже, совсем соскочила со стропил (Алтын-толобас, с. 174).
Создание речевого портрета персонажа – еще одна функция фразеологии в детективах Б. Акунина.
Главному герою цикла «Приключения магистра» Николасу Фандорину, британскому гражданину с русскими корнями, свойственно владение несколькими языковыми регистрами: в зависимости от ситуации он то прибегает к жаргонной, просторечной идиоматике, то вновь возвращается к привычному для него «элитарному» языку, нередко использует англицизмы:
-
(69) Я леплю горбатого, – переспросил Фандорин, сделав обиженное лицо. – Вы хотите сказать, что я гоню туфту? (Алтын-толобас, с. 121);
-
(70) К чертовой бабушке эту историческую Родину с ее криминальными интригами и головокружительными загадками (Алтын-толобас, с. 177);
-
(71) План был, что называется, fool-proof («сто процентов верный») (Алтын-толобас, с. 354);
-
(72) – Dream, midsummer night’s dream, – пробормотал Николас, уже почти не сомневаясь, что все ему снится (Алтын-толобас, с. 102).
Юная журналистка Алтын Мамаева – яркая представительница молодого поколения России 90-х. Ее речь образна, экспрессивна, нередко груба, отражает все языковые особенности данного периода, а также сферы ее профессиональной деятельности:
-
(73) Мы не вскрываем общественные язвы и не посыпаем голову пеплом, а фиксируемся на позитиве. Чтоб люди читали журнальчик и думали: жить стало лучше, жить стало веселей (Алтын-толобас, с. 125);
-
(74) Надо тебя спрятать. А то оторвут башку, так я и не узнаю, что ты за хрен с горы (Алтын-толобас, с. 122);
-
(75) Одно из двух: или ты полный придурок, или ты мне лепишь горбатого (Алтын-толобас, с. 121).
В отличие от своего потомка, заранее изучившего тонкости современной ему русской речи, Корнелиус фон Дорн вынужден постигать особенности языка, культуры, нравов русских, только оказавшись в стране, что объясняет присутствие в его речи иноязычных вкраплений:
-
(76) Вот уж воистину guod licet Jovi (Алтын-толобас, с. 146);
-
(77) Honor primum, alia deinde (Алтын-толо-бас, с. 37),
в то время как транслитерации подвергаются собственно русские выражения, что помогает читателю почувствовать нюансы произношения иностранца, например:
-
(78) Кланяться, lomati shapku или нет? (Алтын-толобас, с. 116).
Не менее яркая языковая личность – помощник Николаса Фандорина Валентин, типичный представитель современного поколения. Его речь – причудливая смесь собственно русской жаргонной, просторечной фразеологии и заимствований, устойчивых
РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ оборотов, явившихся следствием контаминации русских лексических единиц и англицизмов, часто транслитерированных:
-
(79) – Улет, старфлайт, – мечтательно протянул Валя.
– Какой улет?
– Полный. Мужик какой-то взял и улетел. <...> Наверно, вмазал «белого» или стэмпов нализался – от них тоже крылья вырастают (Внеклассное чтение, с. 85);
-
(80) – Здесь гоняют лайв, – орала она на ухо Николасу в темном, битком набитом зальчике, где выступала хард-рок группа. – Сегодня жуткий дренаж, просто анкруайабль. <...>
– Да, ник дебильный, – кивнула Валя, в свою очередь не поняв вопроса. – Давайте жать на экзит, пока не стошнило (Внеклассное чтение, с. 199);
-
(81) – Значит, верный супруг, да? Фэмили мэн, да? Я, как дура, ему верила, пальцем не касалась! А тут первая попавшаяся пута пальцем поманила – и пожалуйста. <...> А я, значит, вам «олвиз» юза-ный, да? (Внеклассное чтение, с. 211).
Многочисленные и разнообразные преобразования ФЕ помогают писателю передать особенности живой разговорной речи (речевую динамику и экспрессию, эмоциональносубъективное отношение персонажа к описываемым событиям), способствуют конкретизации значения фразеологизмов, вносят дополнительные смысловые оттенки, превращая таким образом единицу виртуальную в реально функционирующую в речи структуру.
Важная функция трансформации ФЕ в текстах Б. Акунина – придание детективному сюжету необходимого юмора . Широкие возможности фразеологии как материала для языкового каламбура не раз отмечались исследователями [Бондаренко, 2001; Мокиенко, 2012; Санникова, 2002]. «Многие фразеологизмы наделены в разной степени особой коммуникативно-прагматической целеустановкой на создание эффекта, вызывающего у слушателя / читателя удовольствие в виде смеха» [Бондаренко, 2001, с. 74].
В своих романах Б. Акунин прибегает к различным способам репрезентации смеха с помощью средств фразеологии. Например:
-
(82) Николас любил щегольнуть перед какой-нибудь русской путешественницей безупречным московским выговором и знанием современной
идиоматики. Неизменное впечатление на барышень производил прекрасно освоенный трюк: двухметровый лондонец, не по-родному учтивый, с дурацкой приклеенной улыбкой... вдруг говорил: «Милая, не завалиться ли нам в Челси? Там нынче улетная тусовка» (Алтын-толобас, с. 9).
Здесь языковой каламбур основан на употреблении жаргонной идиоматики в нетипичной для нее ситуации.
-
(83) Когда-то в юности Ник Фандорин неплохо играл в бейсбол, даже был лучшим хиттером школьной команды. Конечно, он не надеялся пере-фехтовать шустрого гения, но появилась одна идея – дикая, даже полоумная. Шанс она давала самый крохотный. Но утопающий ведь хватается за соломинку, а тут все-таки бита. Прочная, ухватистая, тяжелая (ФМ, т. 1, с. 223).
В данном фрагменте происходит обыгрывание значения устойчивой фразы за счет употребления лексемы «бита» со значением «спортивный снаряд из твердого материала для игры в лапту, бейсбол и пр.», антонимичной компоненту «соломинка» – «нечто малое и часто бесполезное для спасения».
-
(84) Столичные люди, те ничего, известия о конце света не испугались, только навострили уши и ближе к монаху придвинулись, а вот судейский уборщик... тот от страшного крика на месте обмер, орудие свое уронил, закрестился. А предвестник Апокалипсиса членораздельно говорить от тоски и ужаса более не мог – затрясся всем телом, и по мучнистому, обросшему бородой лицу покатились слезы (Пелагия и черный монах, с. 5).
Согласно христианским представлениям, предвестники Апокалипсиса – Чума, Война, Голод и Смерть – наделены силой сеять хаос и разрушение в мире и сами внушают ужас. Употребление этого выражения применительно к смертному человеку, испытывающему при этом огромное потрясение, и создает необходимый комический эффект.
-
(85) Могу похвастаться: схиигумен (у него по краю куколя белая кайма) удостоил меня своим святейшим вниманием – клюкой погрозил, чтоб близко не подплывал (Пелагия и черный монах, с. 59).
Устойчивое выражение «уделить внимание» со значением «проявить благосклонность, заботу и пр.» употребляется, как пра- вило, в ситуациях, имеющих благоприятный исход для участников событий. В данном контексте используется нетипичная для оборота конкретизация его значения.
-
(86) – Хорошо бы мы с тобой смотрелись, – стал описывать преосвященный. Несемся сломя голову по Большой Дворянской: рясы подобрали, у меня борода по ветру веником, у тебя патлы рыжие полощутся (Пелагия и черный монах, с. 179).
Здесь также посредством текстуального окружения конкретизируется семантика фразеологизма, создается более зримая картина событий, что не может не вызвать улыбку у читателя.
-
(87) Все свои многочисленные успехи на архипастырском поприще Митрофаний приписывал Господу. <...> Но на самом деле больше руководствовался максимой «На Бога надейся, а сам не плошай», и, надо сказать, плошал он редко, не обременял Господа лишними заботами (Пелагия и черный монах, с. 28).
В данном случае языковой каламбур строится на употреблении в пределах одного фрагмента пословицы и ее отдельных компонентов с нетипичными для них распространителями, что переводит их пословичную семантику из религиозного в иной, бытовой план.
Заключение
Таким образом, фразеологическая составляющая детективов Б. Акунина масштабна и представлена разными типами устойчивых единиц, как в словарной форме, так и в преобразованном виде. Способы трансформации фразеологизмов различны: затрагивают как семантику, так и форму единиц; в результате трансформаций нередко возникают окказиональные обороты. Широкое использование в детективных романах фразеологического богатства русского языка в целом позволяет писателю реализовать ряд художественных задач, придает языку его произведений яркость, образность, оригинальность, способствуя созданию неповторимого стиля Б. Акунина.
Список литературы Функционирование фразеологических единиц в детективной прозе Б. Акунина
- Амусин М., 2009. Чем сердце успокоится. Заметки о серьезной и массовой литературе в России на рубеже веков // Вопросы литературы. № 3. С. 5-45.
- Бондаренко В. Т., 2001. О смеховой функции русской фразеологии // Русский язык в школе. № 3. С. 74-76.
- Бондаренко В. Т., 2011. Устойчивые фразы в русской речи. Тула: Изд-во ТГПУ. 153 с.
- Ермакова Е. Н., Прокопова М. В., 2013. Трансформация фразеологических единиц как языковая стратегия массовой литературы (на материале цикла Б. Акунина "Нефритовые четки") // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. № 3. С. 271-281.
- Максимова Н. И., Корнилова Л. Н., 2018. Фразеологизм как компонент идиостиля Акунина-беллетриста и Чхартишвили-публициста в книге "Кладбищенские истории" // Язык. Культура. Коммуникации. № 2. URL: https://journals. susu.ru/lcc/article/view/652/853 (дата обращения: 26.08.2019).
- Марусенко Н. М., Скребцова Т. Г., 2013. Типичное и нетипичное в структуре детектива // Мир русского слова. № 4. С. 74-79.
- Мокиенко В. М., 2012. Фразеология и языковая игра: динамика формы и смысла // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: Филология. Социальные коммуникации. Т. 25 (64), № 2, ч. 1. С. 100-109.
- Осьмухина О. Ю., 2016. Специфика авторской стратегии Бориса Акунина: жанровый аспект// История русского литературного процесса XI-XX вв. и закономерности его развития на современном этапе: электрон. сб. ст. по материалам III Всерос. (с междунар. участием) науч.-практ. конф. (г. Чебоксары, 20 нояб. 2015 г.). Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т им. И.Я. Яковлева, 2016. С. 133-139.
- Санникова В. З., 2002. Русский язык в зеркале языковой игры. М.: Яз. слав. культуры. 552 с.
- Сафонова С. С., 2008. Функционирование фразеомоделей с семантикой обусловленности в языке романов Б. Акунина // Вестник Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета. № 3 (14). С. 71-74.
- Снигирева Т. А., Подчиненов А. В., Снигирев А. В., 2017. Борис Акунин и его игровой мир. СПб.: Алетейя. 178 с.
- Акунин Б. Алтын-толобас. М.: АСТ, 2017. 384 с.
- Акунин Б. Внеклассное чтение. М.: АСТ, 2017. 576 с.
- Акунин Б. Пелагия и белый бульдог. М.: АСТ, 2014. 319 с.
- Акунин Б. Пелагия и красный петух. М.: АСТ, 2014. 511 с.
- Акунин Б. Пелагия и черный монах. М.: АСТ, 2015. 416 с.
- Акунин Б. Сокол и Ласточка. М.: АСТ, 2016. 447 с.
- Акунин Б. Ф. М.: в 2 т. М.: АСТ, 2017. Т. 1. 319 с.; Т. 2. 285 с.