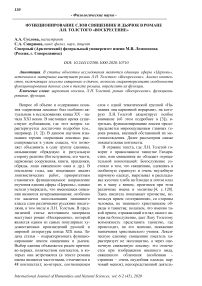Функционирование слов священник и дьячок в романе Л.Н. Толстого "Воскресение"
Автор: Суслова А.А., Смирнова С.А.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 6-2 (45), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье объектом исследования являются единицы сферы «Церковь», источником материала выступает роман Л.Н. Толстого «Воскресение». Анализ контекстов, включающих лексемы священник и дьячок, позволил охарактеризовать особенности функционирования данных слов в тексте романа, определить их функции.
Церковная лексика, л.н. толстой, роман "воскресение", функционирование, функция
Короткий адрес: https://sciup.org/170187823
IDR: 170187823 | DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10710
Текст научной статьи Функционирование слов священник и дьячок в романе Л.Н. Толстого "Воскресение"
Вопрос об объеме и содержании понятия «церковная лексика» был особенно актуальным в исследованиях конца XX – начала XXI веков. В настоящее время существуют публикации, где этот вопрос характеризуется достаточно подробно (см., например, [1; 2]). В данном научном изыскании термин «церковная лексика» рассматривается в узком смысле, что позволяет объединить в одну группу единицы, называющие обрядовую и ритуальную сторону религии (богослужение, его части, церковные сооружения, книги, праздники, обряды, лица священного сана и др.). В последние годы, как показывает анализ лингвистических работ, приоритетным становится функциональное направление изучения единиц сферы «Церковь», однако нельзя утверждать, что имеющиеся описания являются исчерпывающими; особенно это касается использования названного класса слов различными русскими писателями, в том числе и Л.Н. Толстым. В предлагаемой статье источником материала выступает роман «Воскресение», который является одним из самых популярных художественных произведений русской и мировой литературы конца XIX века. Задача статьи – охарактеризовать функционирование лексем священник и дьячок. Выбор единиц объясняется рядом причин: во-первых, количеством контекстов, в которых они встречаются (в тексте романа имена являются частотными, отмечаются в 48 контекстах); во-вторых, соотношением слов с одной тематической группой «Названия лиц церковной иерархии», на которую Л.Н. Толстой акцентирует особое внимание (об этом подробнее в [3]), в-третьих, функционирование лексем предопределяется мироощущением главных героев романа, внешней обстановкой их местонахождения. Далее рассмотрим самые показательные контексты.
В отрывке текста, где Л.Н. Толстой говорит о православном таинстве Евхаристии, имя священник не обладает отрицательной коннотацией: Богослужение состояло в том, что священник, одевшись в особенную странную и очень неудобную парчовую одежду, вырезывал и раскладывал кусочки хлеба на блюдце и потом клал их в чашу с вином, произнося при этом различные имена и молитвы [4, с. 120]. Здесь писатель показывает причастие, используя прием «отстранения», со стороны человека, не знающего христианские обряды и таинства; полагаем, что именно такой прием, отражающий взгляд самого автора на богослужение, дает Льву Толстому возможность представить таинство, где происходит, по его мнению, искажение назначения христианского учения. Лексическую единицу священник писатель характеризует не эксплицитно, а через оценочную сниженную лексику: это отмечается при изображении внешнего вида, священного облачения (особенная ‒ странная ‒ очень неудобная одежда; парчовый мешок), непосредственной деятель- ности духовного лица (плавно махал ‒ над блюдцем и золотой чашей, совал в рот ‒ глубоко, облегченно вздохнул ‒ закрыл книжечку, разговаривал со смотрителем ‒ совал крест ‒ в рот, в нос), характеристике речевых действий (громко закричал ‒ с большим и большим свистом повторял слово «Иисусе» ‒ странный и фальшивый голос ‒ не то пел, не то говорил слова). Приведенные материалы позволяют утверждать, что Л.Н. Толстой подвергает критике не само лицо, совершающее священные таинства, а действо, которое теряет свое изначальное священное назначение, поскольку «обставляется» особенной торжественностью. Такой вариант обрядовой стороны церковного таинства не принимается писателем, а сам ритуал оценивается как манипуляция со знанием простого человека, находящегося в статусе арестанта. Заметим, что именно этот фрагмент текста подвергся огромной критике и был полностью запрещен цензурой, а самого писателя за эту сцену богослужения отлучили от православной церкви.
Необходимо подчеркнуть, что автор использует прием антитезы в контекстах, где оценивается речь священника, изображается хор и дьячок: Дьячок <…> сначала читал, а потом пел попеременкам с хором из арестантов разные славянские, сами по себе мало понятные, а еще менее от быстрого чтения и пения понятные молитвы; Было прочтено дьячком несколько стихов из Деяний апостолов таким странным, напряженным голосом, что ничего нельзя было понять, и священником очень внятно было прочтено место из евангелия Марка [4, с. 120]. В контекстах отмечается, что арестанты не понимают молитвы дьяка, поскольку они совершаются машинально, как бы «по привычке», торопливо и без должного служения. В связи с этим можно заключить, что Л.Н. Толстой пытается заставить задуматься читателя над тем, как это таинство должно совершать: тот, кто не верит и не покланяется, в итоге погибнет, а тот, кто верит, крестится, молится, будет спасен. Также автор противопоставляет речевые действия хора и священника, замечая при этом, что второй производит не священный обряд, а какую-то назида- тельную операцию для арестантов: Изрядно о пресвятей, пречистой и преблагосло-венней богородице», – громко закричал после этого священник из-за перегородки, и хор торжественно запел [4, с. 120].
Приведенные контексты позволяют заключить, что в православной церкви Евхаристия, по мнению Льва Толстого, представляет собой бессмысленный обряд, утративший свою «священную» составляющую, поэтому при чтении текста романа возникает ощущение, что сам писатель не верит в ее христианское действие. Толстой был убеждён, что царство Божие совершается внутри человека, потому человек может не молиться перед иконой, не вкушать хлеб и вино в храме, он не нуждается в тех обрядах, которые проходят внутри церкви. Особое внимание автор уделил этому вопросу в своей работе «Ответ Синоду». Проиллюстрируем некоторые положения как доказательства высказанному нами ранее: Лев Толстой говорит, что он просто и объективно описал действия священника, который совершает «так называемое таинство», представляющее собой «нечто священное», а по сути «кощунство». Оно заключается в том, что «люди, пользуясь всеми возможными средствами обмана и гипнотизации, – уверяют детей и простодушный народ, что если нарезать известным способом и при произнесении известных слов кусочки хлеба и положить их в вино, то в кусочки эти входит бог; и что тот, во имя кого живого вынется кусочек, тот будет здоров; во имя же кого умершего вынется такой кусочек, то тому на том свете будет лучше; и что тот, кто съел этот кусочек, в того войдёт сам бог» (цит. по: [5, с. 40]). Полагаем, что можно согласиться с мнением Ю.В. Прокопчука, который в своей статье замечает, что в романе «Воскресение» писатель «не хотел глумиться над чувствами верующих», так как не выражал протест против церковных обрядов. Главную причину такого отношения Льва Толстого к обряду Евхаристии исследователь видит не в неприятии самого обряда, а в том месте, где этот обряд производит священное лицо – в тюремной церкви [5]. Действительно, в одних контекстах Толстой указывает на церковные и религиоз- ные детали (молитва, Библия и под.), в других - на детали принудительного порядка (кандалы, цепи и др.). Такое изображение достигается при помощи приема антитезы, что концептуализируют следующие примеры: арестанты падали и подымались <…> гремя кандалами, натиравшими им худые ноги; кланялся смотритель, надзиратели, арестанты, и наверху особенно часто забренчали кандалы [4, с. 121].
В романе отмечается и социальное неравенство, особенно ярко оно проявляется в сценах, где описывается поведение осужденных на причастии, например: Сначала подошёл к священнику и приложился к кресту смотритель, потом помощник, потом надзиратели, потом, напирая друг на друга и шёпотом ругаясь, стали подходить арестанты [4, с. 124]. Писатель обращает внимание на то, в какой очередности подходят к священнику действующие лица: сначала смотритель, то есть самая главное лицо в тюрьме, после него уже все остальные. В контексте Священник, разговаривая со смотрителем, совал крест и свою руку в рот, а иногда в нос подходившим к нему арестантам [4, с. 124] автор также заостряет внимание читателя на неодинаковом отношении священника к смотрителю и заключенным. Показательное выражение находим в трактате Л. Толстого «Исследование догматического богословия», где он пишет, что само слово церковь «есть название обмана», оно позволяет одним людям «властвовать над другими» (приводится по [5, с. 48]).
Следует отметить, что в романе «Воскресение» писатель не только резко обличает «способ» и «место» совершения богослужения, но представляет и другое описание службы, когда повествует о Пасхе. В контекстах, где речь идет о великом церковном празднике, Л.Н. Толстой не критикует лица церковного чина, без насмешек говорит о совершаемых ими действиях. Пасхальное таинство, проходящее в местной церкви в Паново, изображается писателем как радостное, светлое, животворя- щее событие, которое преисполнено созидающей любовью и теплом: «Церковь была полна праздничным народом <...> золотой иконостас горел свечами, со всех сторон окружавшими обвитые золотом большие свечи. Паникадило было уставлено свечами, с клиросов слышались развеселые напевы добровольцев-певчих с ревущими басами и тонкими дискантами мальчиков<…> Все было празднично, торжественно, весело и прекрасно: и священники в светлых серебряных с золотыми крестами ризах, и дьякон, и дьячки в праздничных серебряных и золотых стихарях, и нарядные добровольцы-певчие с маслеными волосами, и веселые плясовые напевы праздничных песен, и непрестанное благословение народа священниками тройными, убранными цветами свечами, с все повторяемыми возгласами: "Христос воскресе! Христос воскресе!"» [4, с. 53]. В приведенном контексте мы можем заметить, что писатель не показывает читателю лживость священников и ненадобность обрядов и таинств. Данный факт еще раз доказывает точку зрения Ю.В. Прокопчука, что именно место, где проводятся различные малополезные для заключенных действа, подвергается критике со стороны Льва Толстого.
Заключение . Таким образом, в тексте романа «Воскресение» лексемы священник, дьячок функционируют в монологической речи, которая адресуется автором самому себе и читателям. Частотность употребления данных единиц на страницах романа предопределяется стремлением Л.Н. Толстого раскрыть проблему отношения церкви и простого человека, веры и ее воплощения в реальной жизни. В связи с этим в контекстах имена священник и дьячок выполняют две функции: воссоздают ореол духовности и являются средством характеризации священного таинства, связанного с оценочной парадигмой в сознании автора. Последняя функция позволяет писателю проявить свое отношение к церковным обрядам, обычаям.
Список литературы Функционирование слов священник и дьячок в романе Л.Н. Толстого "Воскресение"
- Смирнова С.А. О понятии "церковная лексика" // Научный диалог. - 2014. - № 12 (36). - С. 84-97.
- Якимов П.А. Религиозная лексика - церковная лексика - библейская лексика: к вопросу о соотношении понятий // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2013. - №6. - С. 66-68.
- Смирнова С.А., Суслова А.А. Тематический состав церковной лексики в романе Л.Н. Толстого "Воскресение" // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2018. - №8. - С. 124-128.
- Толстой Л.Н. Воскресенье: Роман. Повести. Рассказы. - М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. - 752 с.
- Прокопчук Е.В. Описание богослужения в романе Л.Н. Толстого в романе "Воскресение": перекресток мнений // Мансуровские чтения. - 2011. - Свинья под дубом. - С. 39-46.