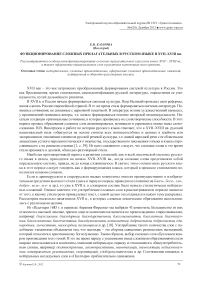Функционирование сложных прилагательных в русском языке в XVII–XVIII вв
Автор: Каунова Екатерина Викторовна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 6 (20), 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются особенности функционирования сложных прилагательных в русском языке XVII – XVIII вв., а также оформление вышеуказанных слов в различных источниках того времени.
История языка, сложные прилагательные, оформление сложных прилагательных, книжная, нейтральная и обиходно-разговорная лексика
Короткий адрес: https://sciup.org/14821850
IDR: 14821850
Текст научной статьи Функционирование сложных прилагательных в русском языке в XVII–XVIII вв
XVII век – это век петровских преобразований, формирования светской культуры в России. Это век Просвещения, время становления, самоидентификации русской литературы, определения ее уникальности, путей дальнейшего развития.
В XVII в. в России начала формироваться светская культура. Петр Великий проводил свои реформы, желая сделать Россию европейской страной. В то же время стала формироваться светская литература. Появились сочинения, не связанные с церковной тематикой. В литературе возник художественный вымысел, у произведений появились авторы, т.е. начало формироваться понятие авторской индивидуальности. Писатели создавали оригинальные сочинения, в которых проявились их словотворческие способности. В этот период процесс образования сложных слов активизировался, возникали и укрепились новые виды словосложения. В.В. Виноградов в работе по истории русского языка отмечает, что в XVII–XVIII вв. русский национальный язык «образуется на основе синтеза всех жизнеспособных и ценных в идейном или экспрессивном отношении элементов русской речевой культуры, т.е. живой народной речи с ее областными диалектами устного народнопоэтического творчества, государственного письменного языка и языка старославянского с их разными стилями [1, с. 39]. Из всего сказанного следует, что сложные слова в это время стали проникать в деловой, обиходно-разговорный стили.
Наиболее противоречивый период в развитии сложений, как и всей лексической системы русского языка в целом, приходится на начало ХVII–XVIII вв., когда сложные слова представляли собой определенную систему, правда, не до конца сложившуюся. В связи с этим о композитах русского языка в этот период следует говорить как о формирующемся классе, который в процессе становления пополнился новыми словами.
Если в древнерусском и старорусском языках композиты относят преимущественно к изобразительным средствам высокого стиля (здесь в первую очередь приводятся сложения на благо-, бого-, зло-, добро-, веле-, все- и др.), то уже в XVII в. в словарном составе было немало стилистически нейтральных сложений. Однако заметим, что употребление сложных слов в рассматриваемом периоде зависело от того, к какому стилю речи принадлежал текст, с какой целью он создавался и какую тему раскрывал. Рассмотрим несколько памятников XVII в., в которых сложные лексические образования использовались с различными целями.
Из «Псалтыри 1683 г. в переводе Аврамия Фирсова» мы выбрали 43 композита. Большинство из них относится к высокой лексике, причем один из компонентов является по происхождению старославянским, например: благогласныи, благодарныи, благодарственныи, благознаменитыи, благолепныи, благополуч-ныи, благословенныи, благочестивыи, благодухновенныи, великолепныи, добровольныи, доброгласныи, еди-нородныи, злочестивыи, милосердыи, полунощныи и др. [10]. Употребление такого количества слов с подобными элементами объясняется тем, что псалтырь – это сборник священных религиозных песнопений, который относится к христианскому богослужению. Таким образом, выбор сложных слов обусловлен жанром произведения и его темой. В это же время наряду с указанными выше сложными образованиями стали широко использоваться и композиты, имеющие нейтральную окраску и относящиеся к общеупотребительным словам, например: десятострунныи, законопреступныи, мимотекущіи, мимоходящіи, неблагополуч-ныи, новоправленыи, рукописанныи, скоропишущіи, удоборазумительныи и др. Соотношение книжных и нейтральных исследуемых слов в «Псалтыри» приблизительно одинаковое.
В произведении П. Зубовского «Контроверсия. Полемическое сочинение XVII века» в основном используются нейтральные композиты, например: нововьезжии, иноземческіи, латиномудрствующие, новопечатныи, рукописменыи и др. Встретилось всего одно слово старославянского происхождения – благочестивыи [7]. Как видим, это произведение не связано с религиозными жанрами, и поэтому в нем употребляются общенародные слова. Следовательно, можно полагать, что уже в тот период сложные слова становятся продуктивным классом в русской народно-разговорной речи, что они относятся не исключительно к книжной по своему происхождению лексике.
Ряд сложных образований обиходно-разговорного характера встречается, например, в челобитных, широко отражающих хозяйственно-бытовую сферу жизни русского народа. Анализируя лексикофразеологические средства челобитных XVII в., С.С. Волков выделяет следующие композиты: прилагательные, описывающие внешние приметы лошадей: белогуб «имеющий светлые губы», белоко-пыт/ый/ «с белой, светлой шерстью над копытом», корноухий «с подрезанными или короткими ушами» и др.; портомойный «служащий для стирки одежды»; двуродный , ср. двоюродный и др. К этим общенародным словам примыкают диалектизмы (преимущественно северновеликорусские): новопри-садный «наносный, намытый водой» [3, с. 35].
В XVII–XVIII вв. русскому литературному языку было широко известно создание разнообразных форм сложных прилагательных. Унаследовав традицию летописного жанра и патетику публицистического, пышно расцвел жанр исторической повести. Сложные прилагательные оказались важной составной частью лексико-стилистических средств произведений этого жанра [4]. В повестях и сказаниях XVII в. композиты выступают как средство не только риторической патетики, но и создания определенного художественного образа. Подобное наблюдается в «Житии протопопа Аввакума». Такие прилагательные, как зломудрствующии, треокаянный (враг) , простоволоса (жена) , пестрообразные (звери), целоумныи (бабы), злосмрадныи, благохитрый (бог), являются не только определениями в повествовании, но и художественными образами, которые создает автор. В тексте встречаются и нейтральные сложения, выполняющие номинативную функцию, например: вышереченный, новоиздан-ныи, богоподражательныи, преждереченныи, двоюродныи и др. Кроме того, обширный пласт сложных слов входил в состав общеупотребительной лексики. Таковы, например, слова многолюдный , половодный, темнозеленый, милосердный, драгоценный , двусторонний и др. [6].
В общем потоке лексико-семантических процессов некоторые из этих сложений подвергались тем или иным семантическим преобразованиям. В ряде случаев происходило обновление значений слов, ранее употреблявшихся в узкой сфере. Отдельные слова из этого слоя расширяют сферу своего применения: всемилостивый , человеколюбивый и др. не только применительно к богу, но и светским и духовным феодалам [3, с. 34].
М.М. Джафаров считает, что «в истории русского языка композиты со старославянскими элементами очень часто подвергались архаизации, в результате чего они постепенно выходили из активного употребления» [5, с. 34]. В качестве примеров исследователь приводит количественные показатели некоторых групп сложений, которые свидетельствуют о том, что с XVII в. (особенно в XVIII в. и первой половине XIX в.) сильно сократилось число слов с архаичными элементами в структуре. Естественно, с развитием языка эти процессы еще более углубились. Однако мы не можем согласиться с такой точкой зрения, потому что, по нашим собственным наблюдениям, группа сложных лексических единиц со старославянскими элементами продолжала пополняться новыми словами. Например, в «Словаре русского языка XVIII века» [18] мы выявили 113 слов с опорным компонентом благо- (ср. в словаре И.И. Срезневского – 98) [15]. В начале XVIII в. сложные прилагательные пополнились новыми лексическими основами: весенне-, весно-, весто-, ветхо-, видео-, глазо-, главно-, гладко-, глупо-, глянце-, гневно-, гнедо-, голово-, горло-, госте-, грунто-, грустно-, длинно-, древне-, кино-, крупно-, магнито-, макро-, машино-, металло-, микро-, молочно-, радио-, свеже-, теле- и др.
В произведениях публицистического жанра сложные прилагательные активно использовались в качестве одного из средств выразительности [7]. Как видим, в произведениях различных жанров XVIII в. расширились стилистические и номинативные функции сложных образований.
Эпоха преобразований Петровского времени явилась мощным толчком в развитии не только страны, но и новых литературных жанров, а также способствовала формированиию норм литературного языка. Образование новых слов – один из наиболее продуктивных способов пополнения и обогащения русского языка этого периода. Особенно большую продуктивность получили сложные прилагательные, первым компонентом сложения которых выступает основа наречия, например: вечно-движимое, высокоглаголивый гладко-вымощенный, глубокомыслящий, густокудрявый, давнопрошедший, дикорастущий, легкоплывущий, мимогрядущий и др. [13].
По материалам «Словаря русского языка XVIII в.» можно судить об орфографии сложных прилагательных рассматриваемого периода. В основном все композиты приводятся в слитном написании, однако уже широко представлены и дефисные написания этих лексических единиц. Дефисное оформление слов входит в практику русского письма только в 20-е гг. XVIII в. Это новое явление в орфографии еще не сформировалось окончательно. По нашему мнению, оно отражает языковое чутье пишущих, т.к. языковая система в это время не была скована общеобязательными нормами. Обратимся к фактам (см. табл.).
|
Написание сложного прилагательного |
||
|
слитное |
дефисное |
слитное и дефисное |
|
багроточивый (един.) |
багро-цветный (един.) |
боголепный / бого-лепный |
|
багряноцветный |
безконечно-малыя |
боготканный / бого-тканный |
|
благомудрый |
буре-любивый (един.) |
боготочный / бого-точный |
|
буреломный |
быстро-пагубный (един.) |
быстротекущий / быстро-текущий |
|
буреносный |
ветвисто-рогий (един.) |
великороссийский / велико-российский |
|
быстротечный |
ветрило-носный (един.) |
вечнодостойный / вечно-достойный |
|
волосообразный |
ветро-ногий (един.) |
вечнозеленый / вечно-зеленый |
|
водоходный |
вечно-движимое (един.) |
водоплавающий / водо-плавающий |
|
воздухомерный |
в желте-красный |
военнопленный / военно-пленный |
|
волосовидный |
взаимно-действующий (един.) |
вольнонаемный / вольно-наемный |
|
волосочесальный |
власо-образный |
геро-элегиаческий / героэлегиаческий |
|
воронкоподобный |
водо-сланый (един.) |
главнокомандующий / главно-командующий |
|
враждолюбивой |
высоко-вздорный (един.) |
горушнообразный / горушно-образный |
|
высокоблагородный |
галло-альбионский (един.) |
грекороссийский /греко-российский |
|
гладкокожий (един.) |
главно-действующий |
громоподобный / громо-подобный |
|
глубокомудрый |
грубо-растворенный (един.) |
грудинореберный / грудино-реберный |
|
горьковатокислой |
едино-сильный |
дактилохорей / дактило-хорей |
|
горькосоляной |
железо-красный (един.) |
жестоковыйный / жестоко-выйный |
|
греколатинский |
железо-льдистый (един.) |
животноносный / животно-носный |
|
громозвучный |
желудочно-сальничный |
западно-северной / западносеверной |
|
громораждающий (един.) |
земляно-сольный |
зловещий / зло-вещий |
|
грушеобразный |
зеленовато-серебристый |
ланцетообразный / ланцето-образный |
|
железоцветный (един.) |
злато-перый |
лунносолнечный / луно-солнечный |
|
западноюжный |
злачно-зеленый |
мелкотравчатый / мелко-травчатый |
|
звонкоприятный |
зубчато-бледный (един.) |
многоцветный / многоцветный |
|
зеленоватобелый |
исполино-подобный |
молниезрачный / молние-зрачный |
|
златокристальный |
историо-критический |
мраморовидный / мраморо-видный |
|
крупнолистный |
крово-млечный (един.) |
небесноземной / небесноземной |
|
мрачногрудый |
крупно-кубоватый (един.) |
|
|
началовесненный (един.) |
лаврово-вишенный |
|
|
лирико-эпический |
||
В «Словаре русского языка XVIII века» дается подробная информация по каждому слову, в том числе и по композитам. Приведенные выше примеры свидетельствуют об орфографической пестроте оформления сложных прилагательных. Некоторые сложения в словаре имеют двоякое написание (либо слитное, либо дефисное). Подобные пометы в словаре весьма ценны. По ним можно судить о процессе развития модели сложного слова в русском языке. В этот период велико число новообразований, т.к. в словаре зафиксированы даже единичные случаи употребления композитов.
В основном в рассматриваемом издании представлены сложные прилагательные 1) со старославянскими элементами, которые образуют большую группу слов с продуктивным либо первым ( благо-, бого-, веле- / велико-, все-, добро-, духо-, душе-, живо-, злато-, криво-, любо- и т.п.), либо вторым ( -ведущий, -гласный, -лепный, -любивый, -мерзкий, -сердый, -словный / -словенный, -творный, -угодный и т.п.) компонентами; 2) со вторым компонентом, который в современном русском языке самостоятельно не употребляется ( -борный, -брысый, -волосый, -взорный, -крылый, -курый, -ногий, -носный, -образный, -окий, -уханный, -ходный, -цветный и т.п.); 3) с первым компонентом наречием ( вечно-, высоко-, гладко-, глубоко-, грубо-, давно-, дико-, крупно-, легко-, лично-, мало-, мимо-, много- и т.п.). Во всех обозначенных выше словах с указанными компонентами отмечается разнобой в оформлении, однако значительное количество колебаний наблюдается в третьем (последнем) случае [13].
В первой половине XVIII в. наряду с многочисленными сложениями еще широко употреблялись и церковнославянизмы. Однако их значимость постепенно снижалась: они становились принадлежностью церковных жанров и частично – произведений «высокого стиля».
В XVIII в. расцвет словосложения связан с творчеством В.А. Тредиаковского, Г.Р. Державина, Н.М. Карамзина. Сложные прилагательные в текстах различных жанров и стилей (в частности в публицистическом и художественном) выступали, как правило, в качестве эпитетов, причем составных (сложных). Например, Б.В. Томашевский отмечает, что «составные эпитеты были характерной чертой державинского стиля: благорумяные персты , взор черноогненный » [16, с. 200]. В поэзии Г.Р. Державина появились цветовые сложные прилагательные, которые стали, по замечанию Е.Г. Сидоровой, «новыми и в структурном отношении, например: красно-желтая (ряса осени), черно-зеленые (перья)» [11, с. 39]. Из произведений Г.Р. Державина можно привести целый ряд сложных прилагательных-эпитетов, составляющих одну из характерных черт его стиля: маки благовонны, сафиросветлые очи, сребророзовые светлицы, темноголубой эфир, черноогненна виссона (Видение мурзы); белорумяные (персты), благоуханное (ложе), златорядная (броня), сапфиросветлые (очи), тихострунный и др. В его поэтических текстах сложные прилагательные встречаются как в дефисном, так и в слитном написании, ср.: красно-розовое вино , черно-тинтово вино (Разные вина), красножелтыи листья , светлоголубые взоры (Осень во время осады Очакова) и др. В своем творчестве Г.Р. Державин создавал новые сложные слова. По этому поводу Я.К. Грот в комментариях к его сочинениям писал: «В рукописи 1790-х гг. Державин против слова славно-школярный (выделено нами. – Е.К. ) поместил следующее: я выдумываю нарочно новые и никому непонятные слова; а особливо ежели захочу простую мысль представить пышною, или правого сделать виноватым…» [14, с. 167]. В основном в его произведениях встречаются слитные написания композитов, дефис он использовал, как правило, тогда, когда слово передавало различные оттенки, например: слезы-ангельски вино, злато-кипрское вино (Разные вина), небесно-голубые взоры (Изображение Фелицы) и др. Ученики Г.Р. Державина порой злоупотребляли составными эпитетами, главным образом эпитетами цветовых оттенков, и это вызывало пародии. Так, например, пародия Сумарокова «Ода в громко-нежно-нелепо-новом вкусе», которая построена на многокомпонентных сложных эпитетах цветообозначения.
Неустойчивое написание сложных образований прослеживается и в произведениях Н.М. Карамзина. По наблюдениям О.И. Онацкой, Н.М. Карамзин писал через дефис композиты, образованные из двух основ и обозначающие качество с дополнительным оттенком: кратко-восхитительный, щастли-во-дерзкий . Таким же образом он оформлял и сочетания наречий с прилагательными и причастиями: богато-одетый, давно-истлевший, дурно-воспитанный [8, с. 79].
На основании рассмотренных примеров можно сделать следующий вывод: в XVII–XVIII вв. сложные образования встречались, как правило, в слитном оформлении. Полуслитные написания были распространены в основном в поэтических произведениях и использовались в тех случаях, когда композиты обозначали качество с дополнительным оттенком. Дефисное оформление отмечалось и у сложных прилагательных с первым компонентом наречием. Связано это с тем, на наш взгляд, что русская орфография тогда только начала осваивать знак дефиса (черточки). Орфографическая пестрота в оформлении сложных прилагательных в XVII–XVIII вв. указывает на отсутствие определенного, устойчивого правила слитных и дефисных написаний слов, хотя в этот период, по замечанию В.В. Виноградова, «класс имен прилагательных пополняется и расширяется с поразительной быстротой соответственно общему темпу роста великого русского языка» [2, с. 153].
Сложные прилагательные в XVII–XVIII вв. широко представлены в различных языковых стилях. В этот период они стали общеупотребительными и в обиходно-разговорной речи, многие из них превратились в стилистически нейтральные. В различных источниках в написании некоторых слов используется и знак дефиса, но поскольку подобные написания не были регламентированы грамматиками, то в практике письма начал наблюдаться разнобой в оформлении рассматриваемых лексических единиц.
Список литературы Функционирование сложных прилагательных в русском языке в XVII–XVIII вв
- Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII-XIX вв. 2-е изд. М.: Высш. шк., 1982.
- Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. 2-е изд. М.: Высш. Шк., 1972.
- Волков С.С. Сложные слова в деловой письменности XVII века//Русская историческая лексикология и лексикография. 1988. № 4.
- Декатова К.И. Типы влияния лексической и грамматической семантики деривата на формирование когнитивной базы фразеологического значения//Изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. Сер.: Филологические науки. 2003. № 4(5).
- Джафаров М.М. Очерки по истории русского словосложения. Баку, 2009.
- Житие протопопа Аввакума//Житие протопопа Аввакума им самим написанное и другие его сочинения. М.: Academia, 1934.
- Зубовский П. Контроверсия. Полемическое сочинение XVII века. Спб., 1888.
- Онацкая О.И. Из истории русской орфографии: дефисное написание в произведениях Н.М. Карамзина и А.С. Пушкина//Филол. науки. 2004. № 5.
- Провоторова Е.Ю. Выразительные возможности безличных конструкций при создании стилистических фигур убавления в произведениях «орнаментальной» прозы///Филология, искусствоведение и культурология в современном мире: материалы Междунар. заоч. науч.-практ. конф. URL: http://sibac.info/index.php/2011-07-08-03-27-51/232-2011-09-23-14-08-44.
- Псалтырь 1683 г. в переводе Аврамия Фирсова/Роc. акад. наук; Ин-т русского языка им. В.В. Виноградова; предисл., исслед., подгот. текста и сост. словоуказат. Е.А. Целуновой. М.: Яз. слав. культур, 2006.
- Сидорова Е.Г. Правописание сложных прилагательных: моногр. Волгоград, 1996.
- Словарь русского языка XVIII века/АН СССР. Ин-т рус. яз.; гл. ред. Ю.С. Сорокин. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1984-1991. Вып. 1-6; СПб.: Наука, С.-Петерб. отд-е, 1992-2004. Вып. 7-14.
- Сочинения Державина с объяснительными примечаниям Я. Грота/Изд-е Императ. акад. наук. Спб., 1864. Т. 1. Ч. 1.
- Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка: в 3 т. М.: ГИС, 1959.
- Томашевский Б.В. Стилистика: учеб. пособие. 2-е изд. Л.: Изд-во ЛГУ, 1983.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 1, М.: Наука, 1975, 372 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 2, М.: Наука, 1975, 320 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 3, М.: Наука, 1976, 288 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 4, М.: Наука, 1977, 404 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 5, М.: Наука, 1978, 392 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 6, М.: Наука, 1979, 360 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 7, М.: Наука, 1980, 404 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 8, М.: Наука, 1981, 352 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 9, М.: Наука, 1982, 360 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 10, М.: Наука, 1983, 327 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 11, М.: Наука, 1986, 455 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 12, М.: Наука, 1987, 383 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 13, М.: Наука, 1987, 319 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 14, М.: Наука, 1988, 311 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 15, М.: Наука, 1989, 288 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 16, М.: Наука, 1990, 295 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 17, М.: Наука, 1991, 296 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 18, М.: Наука, 1992, 288 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 19, М.: Наука, 1994, 272 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 20, М.: Наука, 1995, 288 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 21, М.: Наука, 1995, 280 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 22, М.: Наука, 1997, 298 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 23, М.: Наука, 1996, 253 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 24, М.: Наука, 2000, 254 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 25, М.: Наука, 2000, 278 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 26, М.: Наука, 2002, 278 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 27, М.: Наука, 2006, 276 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 28, М.: Наука, 2008, 303 с.