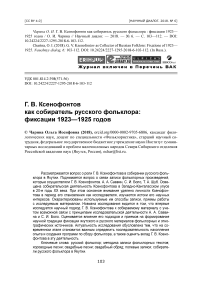Г. В. Ксенофонтов как собиратель русского фольклора: фиксации 1923-1925 годов
Автор: Чарина Ольга Иосифовна
Журнал: Научный диалог @nauka-dialog
Рубрика: Литературоведение. Журналистика
Статья в выпуске: 6 (78), 2018 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается вопрос о роли Г. В. Ксенофонтова в собирании русского фольклора в Якутии. Поднимается вопрос о связи записи фольклорных произведений, которые осуществляли Г. В. Ксенофонтов. А. А. Саввин, С. И. Боло, Т. А. Шуб. Освещена собирательская деятельность Ксенофонтова в Западно-Кангаласском улусе в 20-е годы ХХ века. При этом основное внимание уделено личности Ксенофонтова в период его становления как исследователя, изучаются истоки его научных интересов. Охарактеризованы используемые им способы записи, приемы работы с исследуемым материалом. Новизна исследования видится в том, что впервые исследуется научный подход Г. В. Ксенофонтова к собираемому материалу с учетом возможной связи с принципами исследовательской деятельности А. А. Саввина и С. И. Боло. Оценивается влияние его подходов и приемов на формирование научной традиции фиксации якутского и русского материалов фольклорных и этнографических источников. Актуальность исследования обусловлена тем, что на современном этапе становится важным определить последовательность накопления опыта и создания программ по сбору фольклора, а также оценить вклад Г. В. Ксенофонтова в эту деятельность.
Русский фольклор, методика записи фольклорных текстов, хороводные песни, свадебные песни, свадебный обряд, полевые записи, собиратели русского фольклора в якутии
Короткий адрес: https://sciup.org/14957032
IDR: 14957032 | УДК: 001.814.2:398(571.56) | DOI: 10.24224/2227-1295-2018-6-103-112
Текст научной статьи Г. В. Ксенофонтов как собиратель русского фольклора: фиксации 1923-1925 годов
Гавриил Васильевич Ксенофонтов — известный якутский ученый, историк, этнограф, фольклорист. Ему принадлежат, среди прочего, записи нескольких русских песен и свадебного обряда в Западно-Кангаласском улусе (ныне находящемся в составе Хангаласского улуса).
Ученые историки, этнографы, фольклористы подчеркивают большое значение работ Г. В. Ксенофонтова. В своем исследовании мы опирались на труды ученых этнографов, фольклористов, историков.
Гавриил Васильевич Ксенофонтов известен прежде всего как «прекрасный лингвист и ученый широкого профиля, он одним из первых применил историко-сравнительный анализ и системный поход» [Ученые-исследователи …, 2005, с. 148].
Между тем огромное наследие Г. В. Ксенофонтова, касающееся якутской этнографии и фольклора, почти не опубликовано. Немногие изданные труды получили высокую оценку среди ученых-этнографов и фольклористов. Так, известны его работы по региональному религиоведению: «Легенды и рассказы о шаманах у якутов, бурят и тунгусов», 1928; «Культ сумасшествия в урало-алтайском шаманизме», 1929; «Пастушеский быт и мифологические мировоззрения классического Востока», 1929 [Там же, с. 149]. Позднее были опубликованы книги «Шаманизм. Избранные труды (по записям 1928—1929 гг.)»; «Эллэйада. Материалы по мифологии и легендарной истории якутов» [Ксенофонтов, 1992; 1977].
Совсем недолго проработал Гавриил Васильевич Ксенофонтов в Институте языка и культуры при Совете народных комиссаров Якутской Автономной Советской Социалистической Республики (СНК ЯАССР). Так, он начал там свою трудовую деятельность в 1937 году. Об этом сообщается в «Биобиблиографическом справочнике» 2005 года: «В 1937 г. был принят старшим сотрудником в Институт языка и культуры при СНК ЯАССР. В начале 1937 г. институт направил его в двухгодичную командировку для работы в центральных научных библиотеках страны» [Там же, с. 148]. Однако уже в 1938 году был арестован и расстрелян. Через двадцать лет он был реабилитирован.
Архивные записи Г. В. Ксенофонтова — это обширный фольклорный и этнографический материал, который представлен в рукописном и печатном виде. Ксенофонтов сам перепечатывал записи. Уже первая папка начинается с записей, которые оформлены в виде тетрадей, порой сшитых самим собирателем.
Гавриил Васильевич начал собирать фольклор в своем родном районе. Иногда ему помогал его отец. Ксенофонтов вел записи на двух языках.
Часть записей, касающихся этнографических вопросов, описаний обрядов, сделаны на русском языке, сами обрядовые действия, фольклорные тексты приводятся на якутском языке, зафиксированы латиницей.
-
2. Путь Г. В. Ксенофонтова к изучению фольклора в Якутии
В 1920 году Г. В. Ксенофонтов, оставив юридическую практику, «поступил в Иркутский университет ассистентом на кафедру археологии и этнографии, с 1924 г. — научный сотрудник Наркомпроса ЯАССР» [Ученые-исследователи …, 2005, с. 148]; «в 1920—1923 гг. он работал ассистентом по кафедре археологии и этнографии Иркутского государственного университета» [Эргис, 1974, с. 65]. А. Н. Дьячкова, исследователь более позднего поколения (начала научную деятельность в семидесятые годы ХХ века), внимательно изучавшая жизненный путь Ксенофонтова, отмечает, что «на формирование Ксенофонтова как ученого повлияла научная среда в Иркутске, где с энтузиазмом изучали историю, быт и культуру народов Восточной Сибири. Иркутск с открытием университета стал крупным научным центром. Здесь работали профессора-историки В. И. Огородников, К. Н. Козьмин, Б. Э. Петри; фольклорист и литературовед проф. М. К. Азадовский, литературовед и историк проф. М. П. Алексеев; молодые начинающие историки П. П. Хороших, Ф. А. Румянцев и др.» [Дьячкова, 1998, с. 13].
-
3. Г. В. Ксенофонтов как собиратель русского фольклора
Как видно из его записей, из тех знаний и навыков, которым он обучался в 20-х годах ХХ века, и методов, выработанных собирателем впоследствии, он в этот период приобрел общие представления о фольклорных жанрах и их обусловленности обрядовой культурой.
Затем «в 1925—1926 гг. совершил большую научную экспедицию по маршруту Якутск — Вилюйск — Чона — Ербогачан — Нижняя Тунгус-ска, Красноярск — Хакассия — Западная Бурятия ˂…˃ В 1933 г. выезжал в Якутию для сбора дополнительных материалов по археологии и фольклору» [Там же].
Итак, Г. В. Ксенофонтов увлеченно занимался исследовательской деятельностью. Он не оставил программы по сбору фольклора в Якутии, однако многое сделал в этой сфере.
Так, Г. У. Эргис сообщает, что «сохранилась самая ценная часть научного наследства, это — полевые записи исследователя по фольклору и этнографии во время его путешествий — 2500 листов. В рукописном архиве Г. В. Ксенофонтова имеются записи почти по всем жанрам якутского фольклора, особенно много материалов по историческому и шаманскому фольклору, имеются также этнографические записи по различным обрядам и обычаям, по материальной культуре» [Эргис, 1974, с. 67—68].
Как известно, вскоре в институт пришли работать А. А. Саввин (1937 г.) и С. И. Боло (1938 г.), которые составили программу по сбору якутского фольклора. Н. В. Покатилова указывает на преемственность научных изысканий Г. В. Ксенофонтова, А. А. Саввина и С. И. Боло: «Есть смысл в некотором предположении, что именно исследовательская позиция Г. В. Ксенофонтова, полевая практика 1920-х гг., обобщение в ряде его работ того времени во многом повлияли на становление Саввина-исследователя, а затем и — собирателя» [Покатилова, 2017, с. 135].
Нами в предшествующих статьях рассматривались особенности фиксации русского фольклора в период работы С. И. Боло в Северной экспедиции в 1939—1941 годах [Чарина, 2017а, с. 69—73], а также изучалась деятельность сотрудников Института в Аллаиховском районе в 1946 году [Чарина, 2017б, с. 68—72]. Мы приходим к выводу о том, что С. И. Боло, Т. А. Шуб следовали составленным программам, о чем свидетельствует нацеленность на сбор текстов определенных жанров (сказки, былины, песни, малые жанры фольклора).
По некоторым заметкам в неопубликованных трудах Г. В. Ксенофонтова можно заключить, что он хорошо знал русский фольклор, ареал его распространения в Якутии, интересовался особенностями русского фольклора на Северо-Востоке Якутии: «Не мешает добавить, что и славянская культура в своих исконных видах лучше всего сохранилась, конечно, здесь, тогда как эта культура с запада разрушается под напором движущейся средиземноморской городской культуры? В том отношении Сибирь может соперничать с дальним севером Европейской России, где зарегистрированы и собраны наиболее богатые находки русского народного фольклора, а особенно былины и песни народные. В Сибирь зашла и осталась все та же культура восточных славян, которая сохранилась в Вологодской и Архангельской губернии» [РО Архива, п. 61, л. 8].
Ему доводилось записывать песни от русских информантов на русском языке. В сборнике «Фольклор русского населения Приленья» приводятся песни, записанные Г. В. Ксенофонтовым [ФРНЯ, 1993, с. 10, 95—102].
Л. П. Кузьмина и З. А. Миронова, рассказывая в своей статье [Кузьмина и др., 1979] о работе экспедиции Института общественных наук СО АН СССР в 1973 году, дают некоторые комментарии относительно сбора русского фольклора Г. В. Ксенофонтовым.
Л. Е. Элиасовым и его коллегами в ходе работы с архивом Рукописного фонда Якутского филиала СО АН СССР были изучены материалы по фоль- клору, которые собирал Г. В. Ксенофонтов в рамках его экспедиции по среднему течению реки Лены. Авторы пишут, что собрание Ксенофонтова — «наиболее раннее по времени записи» [Кузьмина и др., 1979, с. 178].
Сотрудница института Р. П. Потанина побывала «в селах Бестях и Тит-Аары, расположенных в 130 км от г. Якутска. Пятьдесят лет назад здесь работал краевед-собиратель Г. В. Ксенофонтов. Он к сожалению, не оставил никаких замечаний об исполнителях и бытовании записанных им произведений и не сделал записи основного фольклорного репертуара местных жителей» [Там же, с. 187].
Далее, об информанте Иннокентии Козлове, когда-то исполнявшем песни для Г. В. Ксенофонтова, Р. П. Потанина сообщает: «Живет в с. Тит-Аары Иннокентий Козлов, который по общему признанию односельчан является лучшим песельником» [Там же, с. 187—188]. Потанина сетует, что поработать с исполнителем не удалось из-за его болезни.
Таким образом, спустя пятьдесят лет после первого опыта сбора фольклорных текстов на русском языке на территории Якутии, предпринятого Г В. Ксенофонтовым, можно констатировать существование русского фольклора в довольно разнообразном жанровом составе. По этому поводу Л. П. Кузьмина и З. А. Миронова пишут: «Собранные материалы показали полное несоответствие с фольклорными материалами Г. В. Ксенофонтова, несмотря на то, что наши записи производились в основном от старожилого населения» [Там же, с. 188]. Исследователи считают, что «возможно, причина <…> заключается в том, что Г. В. Ксенофонтов большое внимание сосредоточил на собирании фольклора коренного населения, а от русских старожилов записывал главным образом хороводные и плясовые песни» [Там же, с. 188].
Рукописи . Г. В. Ксенофонтов вел записи в тетрадях стандартного размера. На современном нам этапе это очень «состарившаяся» бумага, чернила выцвели, но уже сам автор перепечатывал свои тексты, они приведены несколько в ином порядке, нежели они были записаны от двух исполнителей.
Так, в 1923 году в Мальжагарском наслеге Тит-Арынского сельсовета от Александра Голокова (примерно 40 лет) были записаны песни: «Хороводе выли мы», «Как по ельнички», «Чижик, пыжик у ворот», «Со полуночи рябина», «Садись санечке со мною», «Во саду ли, в огороде», «Ой, какая умница», «Уж ты, пчела моя, пчелочка», «Как на горе калина, под горою малина» [РО архива, п. 1, л. 5—9].
В январе 1925 года Г. В. Ксенофонтов в станке Бестях записал от Иннокентия Козлова (возраст не указан) следующие песни: «В хороводе были мы», «Как по ельничку», «На высоком тереме», «Черный ворон воду пил», «Постелечку постелю», «Во лузья была, зеленые лузья», «У талинушки девка стояла», «Что ж ты, мальчик» [РО архива, п. 3, л. 25—27].
Отметим, что Г. В. Ксенофонтов в основном фиксировал хороводные песни.
Записи Г. В. Ксенофонтова свидетельствуют о том, что он старался делать отметки об особенностях произношения и вариантах текста, например:
Во саду ли, в огороде
Девица (девисса) гуляла,
Она ростом невелица (невелиса) [ФРНЯ, 1993, с. 99];
Уродился хорош мальчик,
За сударушкой спою,
Агляниться не могу!
Аг(ля)делся, не смотрелся [ФРНЯ, 1993, с. 100].
Таким образом, Г. В. Ксенофонтовым было записано 17 песен.
Публикации. Тексты песен, записанных собирателем, опубликованы в сборнике «Фольклор русского населения Якутии»: «Черный ворон вод пил», «Что ж ты, мальчик», «Под горою малина», «У талинушки девка стояла», «Со полуночи рябина», «В хороводе были мы», «Хороводе выли мы», «Во саду ли, в огороде», «Уродился хорош мальчик», «Уж ты, пчела моя, пчелочка», «Чижик-пыжик у ворот», «Как по ельнички» [ФРНЯ, с. 95—102].
В сборнике «Культурное взаимодействие народов Республики Саха (Якутия): история и современность» приводится запись Г. В. Ксенофонтова о проведении свадебного обряда в Хангаласском районе, в рамках этого обряда звучала песня «Черный ворон воду пил» [Чарина, 1995, с. 55—62]. Если оценить состояние русского обряда в Якутии, то следует отметить, что обряд в Приленье в целом сохраняет те характерные черты, которые свойственны свадебному обряду в русской обрядовой традиции.
Ряд песен, которые записывал Г. В. Ксенофонтов, удалось записать и автору статьи в 90-е годы ХХ века. По всему среднему Приленью исполняются песни «Под горою калина, под горою малина», «Круглолица-белолица красная девица» [ФРНЯ, 1993, с. 25], «Солнце греет, ветер дует», «Как наши в огород», [Там же, с. 34—36], «В хороводе были мы» [Там же, с. 38—39]. В данном случае песня «Со полуночи рябина» имеет вариант «Солнце греет, ветер дует».
К сожалению, не встретились в 90-е годы ХХ века такие песни, как «Чижик-пыжик у ворот» — наборная, «Уж ты, пчела моя, пчелочка» — разборная, «Уродился хорош мальчик» — величального плана [Чарина, 1998, с. 75].
-
4. Выводы
Таким образом, Гавриил Васильевич Ксенофонтов — первый якутский ученый, который записал, хотя и не системно, русские, преимущественно хороводные, песни, услышав их в исполнении потомков русских старожилов в местах их постоянного проживания на территории Якутии.
Кроме того, являясь сотрудником Института языка и культуры при СНК ЯАССР, он последовательно осуществлял идею записи текстов разных фольклорных жанров на якутском языке.
Очевидно прослеживается связь в научной деятельности ряда собирателей и ученых: П. А. Ойунского, Г. В. Ксенофонтова, А. А. Саввина, С. И. Боло. Известно, что Г. В. Ксенофонтов был принят на работу по приглашению директора института П. А. Ойунского, писателя, общественного деятеля, также почитателя устного народного творчества. Поэтому неудивительна общая приверженность основателей института идеям последовательного и планомерного сбора не только якутского, но и иного фольклора в пределах Якутской Автономной Республики. И если у первых сотрудников института еще не было четкой, изложенной на бумаге программы по сбору фольклорных и этнографических материалов, то уже спустя год А. А. Саввин и С. И. Боло разрабатывают такую программу, а в 1938 году отправляются в экспедицию по вилюйским районам.
Список литературы Г. В. Ксенофонтов как собиратель русского фольклора: фиксации 1923-1925 годов
- РФ Архива СО РАН -Рукописный фонд Архива ЯНЦ Сибирского отделения РАН, Ф. ОП. 1. П. 1. Л. 338. П. 3. Л. 224. П. 23. Л. 143. П. 61. Л. 159. Архив Г. В. Ксенофонтова.
- ФРНЯ -Фольклор русского населения Якyтии (Pyccкиe песни Ленского тракта)/сост. О. И. Чарина. -Якутск: ЯНЦ СО РАН, 1994. -132 с.
- Дьячкова А. Н. Жизнь и деятельность Г. В. Ксенофонтова/А. Н. Дьячкова//Г. В. Ксенофонтов: возвращение к себе. -Москва: Айыына, 1998. -С. 6-7.
- Ксенофонтов Г. В. Ураангхай-сахалар. Очерки по древней истории якутов. В 2 т. Т. 1. Кн. 1./Г. В. Ксенофонтов. -Якутск: Национальное издательство Республики Саха (Якутия), 1992. -416 с.
- Ксенофонтов Г. В. Ураангхай-сахалар. Очерки по древней истории якутов: в двух томах. Т. 1. Кн. 2./Г. В. Ксенофонтов. -Якутск: Национальное издательство Республики Саха (Якутия), 1992. -318 с.
- Ксенофонтов Г. В. Шаманизм. Избранные труды (по записям 1928-1929 гг.)/Г. В. Ксенофонтов. -Якутск: Север-Юг, 1992. -316 с.
- Ксенофонтов Г. В. Эллэйада. Материалы по мифологии и легендарной истории якутов/Г. В. Ксенофонтов. -Москва: Наука, 1977. -247 с.
- Кузьмина Л. П. Современный русский фольклор на Крайнем Севере/Л. П. Кузьмина, Э. А. Миронова//Современный русский фольклор Сибири. -Новосибирск: Наука, 1979. -С. 177-205.
- Покатилова Н. В. О фольклорном наследии А. А Саввина: интеллектуальный контекст и исследовательский подход/Н. В. Покатилова//Северо-Восточный гуманитарный вестник. -2017. -№ 3. -С. 90-94.
- Ученые-исследователи Института гуманитарных исследований Академии Наук РС(Я): биобиблиографический справочник/ред. В. Н. Иванов . -Якутск: ИГИ РС(Я), 2005. -С. 148-150.
- Чарина О. И. Боло как собиратель русского фольклора: фиксации 1940-1941 гг./О. И. Чарина//Филологические науки. Вопросы теории и практики. -2017. -№ 10. -Ч. 1. -С. 69-73.
- Чарина О. И. Локальные особенности лирических песен русских Якутии/О. И. Чарина//Филологические науки. Вопросы теории и практики. -2016. -№ 7. -Ч. 2. -C. 41-45.
- Чарина О. И. Особенности проведения экспедиции 1946 г. в Русское Устье/О. И. Чарина//Филологические науки. Вопросы теории и практики. -2017. -№ 12. -Ч. 3. -С. 68-72.
- Чарина О. И. Свадебный обряд Приленья/О. И. Чарина//Культурное взаимодействие народов Республики Саха (Якутия): история и современность. -Якутск, 1995. -С. 55-62.
- Чарина О. И. Характер изменений в хороводных песнях (по записям Г. В. Ксенофонтова)/О. И. Чарина//Г. В. Ксенофонтов: возвращение к себе. -Москва, 1998. -С. 72-79.
- Эргис Г. У. Очерки по якутскому фольклору/Г. У. Эргис. -Москва: Наука, 1974. -403 с.