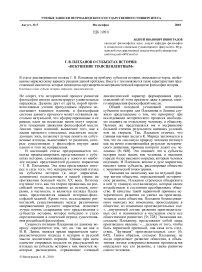Г. В. Плеханов о субъектах истории: «искушение трансцендентным»
Автор: Виноградов Андрей Иванович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 5 (110), 2010 года.
Бесплатный доступ
Субъект истории, марксизм, трансцендентное
Короткий адрес: https://sciup.org/14749749
IDR: 14749749
Текст статьи Г. В. Плеханов о субъектах истории: «искушение трансцендентным»
В статье рассматриваются взгляды Г. В. Плеханова на проблему субъектов истории, описываются черты, свойственные марксистскому варианту решения данной проблемы. Вместе с тем выявляются такие характеристики представлений мыслителя, которые имплицитно противоречили материалистической парадигме философии истории. Ключевые слова: субъект истории, марксизм, трансцендентное
Не секрет, что исторический процесс развития философии иногда демонстрирует удивительные парадоксы. Далекие друг от друга, порой противоположные учения причудливым образом испытывают взаимное влияние, а философская система давнего прошлого может оставаться настолько актуальной, что сформулированные в ее рамках идеи на несколько веков могут определить тенденции движения философской мысли. Анализ таких влияний, выявление того, как к идеям прошлого относились мыслители последующих эпох, позволяет лучше понять их собственные взгляды, высвечивает те различия, которые существовали у философов внутри даже одного и того же направления.
В настоящей статье предпринимается попытка проанализировать представления о субъектах истории, сложившиеся у одного из наиболее видных представителей русского марксизма – Г. В. Плеханова. Эта тема представляет интерес в силу того, что материалистический взгляд на субъекты истории (в виде марксизма-ленинизма) господствовал в нашей стране на протяжении большей части ХХ века. Поэтому изучение того, как эта теория проявилась на российской почве, исследование ее истоков, которыми, в частности, и являются взгляды Плеханова, представляется важной историко-философской задачей. Кроме того, исследование разногласий, существовавших между различными направлениями русского марксизма, позволяет лучше понять содержание того представления о субъектах истории, которое победило и стало определяющим в советский период существования российской философии.
Сущность позиции Плеханова по данному вопросу определяется тем, что он, так же как и В. И. Ленин, являлся ярким выразителем материалистического подхода к истории в русской мысли досоветского периода. Однако при всем единстве отправных посылок их рассуждений во взглядах на субъекты истории у них имеются некоторые расхождения, отражающие сложный диалектический характер формирования представлений об этом предмете даже в рамках одного направления философской мысли.
Общей исходной установкой понимания субъектов истории для Плеханова и Ленина служило представление о том, что приоритет при исследовании исторического процесса необходимо отдавать не отдельному человеку, а обществу. Человек же представлялся им в несравненно большей степени результатом внешних условий, чем их творцом. Так, Плеханов отмечал, что главная научная заслуга К. Маркса заключается в том, что он «на самую природу человека взглянул как на вечно изменяющийся результат исторического движения, причина которого лежит вне человека» [6; 608]. Это означает, что и субъекты истории надо искать вне человека, в явлениях гораздо более высокого порядка, которым человек подчинен. И Плеханов, вполне в духе марксизма, находит такие субъекты, рассматривая общество с экономической точки зрения.
Указывая на экономику как на ведущий фактор жизни общества, определяющий историческое развитие, Плеханов стремился обнаружить в ней ту главную составляющую, которая своим воздействием в состоянии преобразовать общество. В качестве такой первичной причины исторического развития он указал на производительные силы общества. Плеханов безапелляционно выводил все изменения, происходящие в обществе, из изменения производительных сил: «…внутренней логике развития производительных сил и подчиняется в последнем счете все общественное развитие» [9; 228]. Экономика же, согласно Плеханову, представляет собой лишь производное явление: «…далекая от того, чтобы быть первичной причиной, она сама есть следствие, “функция” производительных сил» [6; 645]. Таким образом, согласно Плеханову, не люди определяют развитие общества, а объективная логика совершенствования производства определяет все его развитие, а также развитие самого человека.
Свое мнение на этот счет Плеханов совершенно определенно выразил в статье «К вопросу о роли личности в истории» (1898). Здесь он утверждает подчиненное положение личности по отношению к экономическим отношениям: все, что может личность в истории, согласно Плеханову, – быть более или менее годной для удовлетворения общественных нужд. Верный своему «монистическому взгляду», он считал, что история совершается согласно естественному ходу, подчиняется объективным закономерностям, поэтому деятельность личности определяет лишь «индивидуальную физиономию исторических событий», направление же их определяется развитием производительных сил [7; 330].
Теоретической основой подобного представления о характере деятельности субъекта истории Плеханову служило учение о единстве субъекта и объекта, в соответствии с которым существование субъекта рассматривалось как не более чем стадия развития объекта. Это учение вытекало из плехановского понимания материализма как продолжения представления Б. Спинозы о единой субстанции, «для которой протяжение и мысль являются только атрибутами» [11; 339]. В соответствии с этой позицией Плеханов стремился не допускать никакого дуализма в решении фундаментальных вопросов, что в области философии истории проявилось как монистическое подчинение субъективных элементов исторического процесса его объективным факторам. Сам Плеханов выразил это свое стремление следующим образом: «…излагаемое нами учение вовсе не упускает из виду роли разума; оно только старается объяснить, почему разум в каждое данное время действовал так, а не иначе; оно не пренебрегает успехами разума, а только старается найти для них достаточную причину» [6; 617]. Но что в понимании материалиста значит «найти достаточную причину»? Это значит указать те объективные условия, которые привели разум к тем или иным решениям. Данное положение ярко отражает настрой Плеханова объяснять действия человека причинами, находящимися в материальной сфере его жизни.
Отразила философия истории Плеханова и марксистское учение о классовой борьбе. Верный главному философскому принципу марксизма о том, что общественное бытие определяет общественное сознание, Плеханов исходил из представления, согласно которому производственные отношения определяются состоянием производительных сил [8; 658]. В соответствии с этим определенный этап развития производительных сил закономерно порождает антагонистические производственные отношения между общественными классами. Дальнейшее развитие производительных сил должно привести к победе класса, выражающего прогрессивную тенденцию этого развития, и установлению социалистического строя. Задача субъективного фактора в этом закономерно протекающем процессе заключается в том, чтобы быть выразителем этих объективных тенденций. Плеханов, в соответствии с марксистским представлением, видит в этом функцию пролетариата.
Во всем этом, даже в увлечении спинозизмом, Плеханов принципиально не погрешил против марксизма. Его взгляды вполне согласовывались с представлением Маркса об истории как естественно-историческом процессе, движимом объективной логикой развития производительных сил. Эти силы были вполне имманентны человеческому обществу, они рождались в его недрах и выражали его глубинную сущность. Однако размышления Плеханова о субъекте истории не ограничились указанием только на производительные силы общества. Излагая свои взгляды на протекание исторического процесса, Плеханов четко выделял три его уровня. В качестве общей причины исторического движения он указывал на развитие производительных сил. «Рядом с этой общей причиной действуют особенные причины, то есть та историческая обстановка, при которой совершается развитие производительных сил у данного народа и которая сама создана в последней инстанции развитием тех же сил у других народов, то есть той же общей причиной. Наконец, влияние особенных причин дополняется действием причин единичных , то есть личных особенностей общественных деятелей и других случайностей, благодаря которым события получают, наконец, свою индивидуальную физиономию » [7; 332].
Здесь Плеханов, по сути, выделяет три возможных субъекта истории, применяя к историческому процессу философские категории общего, особенного и единичного. Производительные силы – это тот фактор, который, обладая универсальными характеристиками, действует в масштабе всего человечества. Благодаря такому своему свойству он позволяет все человеческое общество рассматривать как субъект истории, поскольку оно при этом приобретает единство исторической жизни. Категория особенного конкретизируется в виде отдельных народов, обладающих теми или иными отличиями в уровне развития и условиях существования производительных сил. Наконец, категорию единичного Плеханов связывает с проявлением личного начала в истории. Таким образом, субъектами истории принципиально могут выступать человечество, народы и личности.
Эта мысль Плеханова заслуживает особого внимания. Благодаря ей впервые в философско-исторической литературе наметился вариант такого решения проблемы субъектов истории, который не абсолютизировал роль ни одного из участников исторического процесса, но учитывал интересы каждого из них. Кроме того, величайшая заслуга Плеханова заключается в том, что он сумел найти методологический принцип, позволяющий непротиворечиво совместить субъекты истории в рамках одного представления. Диалек- тика категорий общего, особенного и единичного в применении к историческому процессу дает возможность описывать его как одновременное взаимодействие трех его участников, сосуществующих в одном историческом пространстве и времени. Использование данного методологического принципа открывало перспективы для сбалансированного решения проблемы субъектов истории, адекватно отражающего основные стороны исторической реальности.
Но, к сожалению, на практике стремление к нахождению баланса между категориями остается у Плеханова реализованным лишь отчасти: в действительности марксистское понимание истории делает явный крен в сторону всеобщего: всеобщность, выступающая в качестве производительных сил материальной жизни общества, согласно его взглядам, определяет собой все остальные сферы жизни и, при всех оговорках о сложном характере их воздействия, подчиняет себе все особенное и единичное. Даже сам текст, в котором Плеханов формулирует данный принцип, свидетельствует о том, что роль и значение перечисленных субъектов истории представлялись ему неравнозначными. Говоря об особенном в истории, мыслитель связывает его со специфическими проявлениями производительных сил у конкретных народов, историческая обстановка существования которых определяется все той же общей причиной – уровнем развития у них этих сил. В результате наметившаяся было тема оригинальности исторических судеб разных народов у Плеханова не получила дальнейшего выражения. Поскольку основные процессы исторического развития протекают на общечеловеческом уровне в виде совершенствования производительных сил, специфика отдельных народов может проявиться только в отношении опережающего или отстающего их проявления. В статье «О Белинском» (1910) Плеханов критикует его за попытку представить историю России как принципиально отличную от истории стран Западной Европы. Плеханов считал, что крайне странно, как это делал Белинский, объяснять отсутствие в России классовой борьбы ссылкой на то, что русский народ родился «с другим непосредственным откровением истины» [10; 566]. Для Плеханова историческое развитие всех народов принципиально одинаково и основано на совершенствовании производительных сил.
Проявление единичного в истории для Плеханова значимо еще меньше, чем проявление особенного. Во-первых, он указывает на то, что действие единичных причин только дополняет действие причин особенных. А во-вторых, конкретизируя единичные причины, Плеханов практически отождествляет их с категорией случайного, тем самым умаляя значение стоящих за ними личностей как субъектов истории. В этом выразился общий настрой марксистской философии истории, сделавшей предметом своего изучения явления общечеловеческого характера, свойственные для всех людей, независимо от их национальных или индивидуальных различий. Следствием этого была нереализованность Плехановым предложенного им принципа. Одна из категорий (общее) оказывалась определяющей по отношению к двум другим, попадавшим в разряд подчиненных, второстепенных, что не могло не привести к односторонности в решении проблемы субъектов истории.
И тем не менее на констатации этого положения нельзя поставить точку в рассмотрении взглядов Плеханова на субъекты истории. Будучи мыслителем с довольно широким кругозором, он не мог ограничиться указанием на отдельного человека как на статиста в исторической пьесе, к чему неизбежно вел экономический, имманен-тистский по своей сути подход к истории. Но, не ограничиваясь им, выходя за его рамки, Плеханов неизбежно испытал воздействие принципиально иного подхода, пережил своего рода искушение трансцендентным. Произошло это не в собственно философско-исторической сфере, где он, несмотря на совсем незначительные колебания, демонстрировал приверженность ортодоксальному историческому материализму, а в сфере этики.
Это была единственная сфера, в которой Плеханов допустил некоторые отступления от принципа подчинения личности объективным условиям. Именно в ней личность оказывается у Плеханова наделенной не только имманентными, но и трансцендентными характеристиками. Еще В. В. Зеньковский подметил, что Плеханов, в целом защищая классовый характер морали, временами переходил в этом вопросе на точку зрения И. Канта, рассматривавшего личность как самоцель [1; 39]. Так, автор «Истории русской философии» ссылается на брошюру «О войне» (1914), где Плеханов, совершенно в духе Канта, критикует капитализм именно за то, что тот видит в личности рабочего лишь средство, пренебрегая ею как целью.
Но признание личности в качестве цели ведет к очень серьезным последствиям. Ведь для того, чтобы рассматривать личность как цель, а не как средство, необходимо признать ее самоценность, ее значение, вне зависимости от какого-либо отношения к обществу. Именно это как нельзя лучше уже показал И. Кант в своем учении об автономности нравственной воли человека. Мораль, по Канту, не может быть выведена из условий общественной жизни человека, она не возникает из опыта, но априорна. Моральный поступок человека выглядит как результат внутреннего императива, не только не возникающего из окружающей его действительности, но зачастую противоречащего ей. При таком подходе нравственные принципы неизбежно приобретают трансцендентный характер, ведут за пределы материальной действительности. Недаром сам Кант сделал вывод о том, что «мораль неизбежно ведет к религии» [2; 81].
Таким образом, стремление Плеханова рассматривать человека как цель, доведенное до своего логического завершения, вступает в противоречие с общим материалистическим настроем его философии, так как ведет в область трансцендентного. Но думается, что рассматриваемый мыслитель неспроста поддался этому искушению. Широта его философского кругозора рано или поздно должна была хотя бы интуитивно дать ему почувствовать противоречие между социоцентристской ориентацией марксизма, видящего в человеке «совокупность общественных отношений», и подлинной сущностью человека, выходящей за пределы социальной среды и гарантирующей его самоценность и несводи-мость к этой среде.
Подобные колебания «первого русского марксиста» замечал не только Зеньковский. Плеханову не раз приходилось публично отмежевываться от приверженности Канту или неокантианству. В этой области мнение Плеханова о характере своей собственной философии расходится с ее внешней оценкой. Но для подобной оценки действительно имеются основания.
Так, касаясь философии Канта, Плеханов критиковал ее за нравственный формализм, за то, что Кант «видел критерий нравственного закона не в содержании, а в форме воли» [4; 460]. Однако очень показательно, что в этой своей критике Плеханов был солидарен с Гегелем, не подвергавшим сомнению абсолютный характер нравственного закона, но лишь считавшим его кантовскую трактовку «отрицательно абсолютной», указывающей на то, чего нельзя делать, а не говорящей, что следует делать. Таким образом, плехановская критика, не касавшаяся абсолютного характера нравственности Канта, молчаливо признавала этот характер со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Надо отметить, что представление об абсолютном характере морали во взглядах Плеханова уживалось с учением о классовой борьбе. Классовый характер морали определялся Плехановым как результат конкретного исторического этапа развития человечества. Такое положение представлялось ему временным и ненормальным, вынужденным определенным уровнем экономического развития общества. В исторической перспективе, с ликвидацией классов, мораль должна приобрести свойственный ей абсолютный характер. В самом общем виде Плеханов выражает эту историческую задачу, вызревающую в капиталистическом обществе, как «общественное освобождение личности» [5; 542]. Отсюда можно сделать вывод, что классовый подход, по Плеханову, не противоречит пониманию сущности личности как носительницы абсолютной нравственности, трансцендентной по своей природе.
В произведениях, написанных в период и после первой русской революции, эта нота приоб- ретала все большее звучание. Из них видно, что интересы рабочего класса для Плеханова не были самоцелью. В двух статьях серии «Борьба наемного труда с капиталом» (1917) Плеханов пишет о том, что «интересы наемных рабочих могут совпадать с интересами предпринимателей» [3; 131]; когда обе стороны понимают это, «происходит уже не борьба классов, а их сотрудничество» [3; 133–134]. Но борьба классов порождена объективной экономической обстановкой, и для их сотрудничества требуется принятие ими какой-то общей основы, лежащей вне их антагонизма, что также логически ведет к трансцендированию за пределы их экономических интересов, в область абсолютной нравственности.
Развитие подобного представления теоретически открывало возможность для дальнейшей плодотворной эволюции понимания субъектов истории в рамках материалистической парадигмы, суть которой могла заключаться в признании самостоятельной роли отдельной личности в силу ее причастности к миру трансцендентного. Но, к сожалению, своего завершения эта идея у Плеханова так и не получила. Его взгляд на субъекты истории сохранил преимущественно имманенти-стские характеристики. «Искушение трансцендентным» осталось выраженным в имплицитной форме и не повлекло за собой серьезных изменений в философско-исторических взглядах Плеханова. Оговорка о возможности самоутверждения личности в истории через сферу морали была сделана им на фоне признания решающей роли в истории производительных сил общества как ее имперсонального субъекта.
В период и особенно после революции 1917 года в России во взгляде на субъекты истории победила точка зрения Ленина. У него мы не найдем подобных колебаний. Всю его деятельность пронизывает стремление доказать объективную основу протекающих в обществе процессов и как следствие этого – независимость исторического процесса от воли и сознания отдельных людей. Процесс, протекающий преимущественно по естественным законам, не требует никакого субъекта, так как оперирует с объектами. Понятие субъекта при этом приобретает чисто номинальное содержание. Неудивительно, что в советской философской литературе вместо термина «субъект истории» использовался термин «субъективный фактор истории». Некоторые колебания представителей русского марксизма, наподобие рассмотренных в настоящей статье, не поменяли понимания субъектов истории. «Искушение трансцендентным» Плеханова вылилось в недосказанное до конца, полуосознанное стремление придать человеку статус субъекта истории. В таком виде оно не могло оказать сколько-нибудь существенного влияния на философию истории в России. А жаль...
Список литературы Г. В. Плеханов о субъектах истории: «искушение трансцендентным»
- Зеньковский В. В. Георгий Валентинович Плеханов//История русской философии: В 2 т. Л.: Эго, 1991. Т. 2. Ч. 2. С. 36-41.
- Кант И. Религия в пределах только разума//Кант И. Трактаты и письма. М.: Наука, 1980. С. 78-278.
- Плеханов Г. В. Борьба наемного труда с капиталом//Плеханов Г. В. Год на Родине. Полное собрание статей и речей 1917-1918 гг.: В 2 т. Париж, 1921. Т. 1. С. 127-134.
- Плеханов Г. В. Генрик Ибсен//Плеханов Г. В. Избранные философские произведения: В 5 т. М.: Госполитиздат, 1956-1958. Т. 5. С. 457-508.
- Плеханов Г. В. Идеология мещанина нашего времени//Плеханов Г. В. Избранные философские произведения: В 5 т. М.: Госполитиздат, 1956-1958. Т. 5. С. 528-608.
- Плеханов Г. В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю//Плеханов Г. В. Избранные философские произведения: В 5 т. М.: Госполитиздат, 1956-1958. Т. 1. С. 507-730.
- Плеханов Г. В. К вопросу о роли личности в истории//Плеханов Г. В. Избранные философские произведения: В 5 т. М.: Госполитиздат, 1956-1958. Т. 2. С. 300-334.
- Плеханов Г. В. Материалистическое понимание истории//Плеханов Г. В. Избранные философские произведения: В 5 т. М.: Госполитиздат, 1956-1958. Т. 2. С. 634-668.
- Плеханов Г. В. Нечто об истории//Плеханов Г. В. Избранные философские произведения: В 5 т. М.: Госполитиздат, 1956-1958. Т. 2. С. 225-235.
- Плеханов Г. В. О Белинском//Плеханов Г. В. Избранные философские произведения: В 5 т. М.: Госполитиздат, 1956-1958. Т. 4. С. 543-594.
- Плеханов Г. В. О мнимом кризисе марксизма//Плеханов Г. В. Избранные философские произведения: В 5 т. М.: Госполитиздат, 1956-1958. Т. 2. С. 335-345.