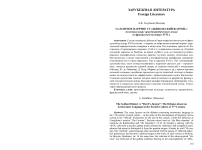Галантное наречие vs "дьявольский жаргон": полемика вокруг аристократического языка во французской культуре XVII в
Автор: Голубков Андрей Васильевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежная литература
Статья в выпуске: 2 (41), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена дебатам об аристократическом языке во французской культуре XVII столетия ¬- в период до закрепления языковой нормы, определенной официальными словарями в конце века. Под влиянием трактата Б. Кастильоне «О придворном» начиная с 1610-х гг. в парижских салонах (в «Голубой гостиной» маркизы де Рамбуйе, во время «суббот» м-ль де Скюдери) культивировалось специфическое галантное наречие «лучших людей», отмеченное особой мягкостью, а также стремлением к метафорическим перифразам, намеренно отдаляющим его от языка народного. Уже к середине XVII в. этот «очищенный» салонный язык, часто отождествлявшийся с жаргоном светских дам - «прециозниц», оказался предметом суровой сатиры со стороны писателей и литераторов (Мольер, Ж. де Лабрюйер, Д. Буур, Морван де Бельгард и др.), причем критика салонной «идиомы» неизбежно проходила в русле галантной эстетики и базировалась на недопустимости «аффектации», провозглашаемой в книге Кастильоне. Салонная прециозная идиома, которая оказала влияние на разработку французской лингвистической нормы благодаря манифестированным требованиям утонченности и изящества, сама предстала в качестве догматической схемы, тоталитарно навязывающей свои правила.
Аристократическая культура, галантность, прециозность, французский язык, салоны
Короткий адрес: https://sciup.org/14914610
IDR: 14914610
Текст научной статьи Галантное наречие vs "дьявольский жаргон": полемика вокруг аристократического языка во французской культуре XVII в
В своем капитальном исследовании «О процесс цивилизации» Н. Элиас размышлял о перипетиях складывания европейских национальных языков: отнюдь не народный узус, но лингвистическое поведение ограниченного «избранного» сообщества (придворного в Италии, придворносветского во Франции, университетского в Германии) рассматривалось немецким исследователем в качестве их главных источников: «Удаление “дурного” из языка обосновывается “тонкостью чувств”, утонченным вкусом, каковой вообще играет немалую роль во всем процессе цивилизации. Но эта утонченность является достоянием небольшой группы. <...> Наделенные подобной деликатностью люди образуют небольшой круг и внутри него по взаимному согласию определяют, что хорошо и что плохо»1. Эти размышления Элиаса иллюстрируются классическим трактатом о придворном обществе, созданном Б. Кастильоне в первой трети XVI в. и ставшем ключевым пособием по галантизации западной аристократии. В этом трактате-диалоге проговаривается необходимость создания особого элитарного языка, отличного от языка черни; именно такой аристократический диалект впоследствии и получит статус нормативного:
«Правильный речевой обиход творится людьми даровитыми, которые наряду с ученостью и опытностью, приобрели хороший вкус; с чем они и сообразуются, соглашаясь принять слова, кажущиеся им добротными и распознаваемыми посредством некоего природного суждения, а не искусства или какого-нибудь правила. Разве вам не известно, что обороты, придающие речи столько великолепия и изящества (grazia), являются отступлениями от грамматических правил, однако принятыми и узаконенными обычаем, потому что - и здесь нельзя привести другие объяснения - они доставляют удовольствие и сам слух, кажется, ласкают сладостно и нежно?»2.
Пристальное внимание к языковым вопросам, к проблеме изобретения особого аристократического наречия во французской культуре наблюдается уже в ранних светских салонах (кружках, альковах, отелях), активно появлявшихся с начала XVII в. Яркий пример - лингвистические эксперименты в «Голубой гостиной» маркизы де Рамбуйе, где были предприняты попытки облагородить язык, прежде всего лексику и правила произношения. Известный мемуарист Ж. Таллеман де Рео, будучи поклонником маркизы, не без скепсиса вспоминает собрания в ее Отеле и личные беседы: «Она уж слишком щепетильна, и слово “шелудивый” (teigneux), встреченное в сатире или эпиграмме, вызывает у нее, как она говорит, неприятное впечатление. При ней не осмелишься произнести слово “зад” (1е mot du ей), и это уже слишком, когда чувствуешь себя непринужденным»3. Действительно, использование слова «зад» в Отеле Рамбуйе было категорически запрещено, причем настоящее правило касалось даже сложных слов, типа le cul-de-lampe (плафон, буквально «задник» лампы), le cul-de-sac (тупик, буквально «дно сумки»), le cul d’artichaut (мякоть артишока). Во всех приведенных случаях слово «си!» заменялось словом «fond» (глубина, задняя часть). Ряд лингвистических предписаний Рамбуйе, вполне в соответствии с логикой Элиаса, соблюдается вплоть до настоящих дней. В той же Голубой гостиной были предприняты попытки вывести из речи некоторые звуки, которые могли бы показаться слишком грубыми; сильнее всего досталось грассирующему «R», по поводу которого в конце 1637 г. состоялся знаменитый спор о слове «щеголь» - согласно ставшей впоследствии нормой женской моде (которую разделял, кроме прочих, поэт В. Ву-атюр), следовало произносить «muscadin», но не «muscardin». В 1647 г. в трактате «Замечания о французском языке» К. Вожла обосновал теорию «прекрасного обихода» (Bel usage), опираясь практически исключительно на наречие «самой здоровой части» (la plus saine partie) общества, те. язык двора и светских салонов. Н.Ю. Бокадорова справедливо замечала, что «“прекрасный обиход” Света тесно связывался Вожла с языком “хороших писателей”, которые не могут не “резонировать”, стараясь сделать свою речь одновременно французской и грамматически правильной», в связи с чем «сближение устной и письменной речи шло в основном по линии приближения разговорного обихода “лучшей части придворного общества” к письменному языку»4.
Спустя два десятилетия после опытов салона Рамбуйе мы оказываемся свидетелями схожих процессов в кружке Мадлены де Скюдери, о знаменитых «субботах» которой вспоминал французский мемуарист Ж. де Ла-брюйер в своей книге «Характеры», созданной в 1670-1680-е гг: «Не так давно в нашем светском обществе существовал кружок, состоявший из мужчин и женщин, которые собирались, чтобы обмениваться мыслями и беседовать. Искусство изъясняться вразумительным языком они предоставили черни: стоило одному из членов кружка сказать что-нибудь неясное, как другой отвечал ему еще более туманно, и чем загадочней становился их разговор, тем громче рукоплескали остальные»5. Лабрюйер с позиции ученого, практически педанта, обращает внимание на то, что в описываемом кружке была предпринята попытка создать свой особенный элитарный язык, отличающийся гипертрофированной изысканностью; Лабрюйер, заметим, указывает, что язык этот был чужд здравому (т.е. общедоступному) смыслу и базировался на принципах остроумия и воображения: «Употребляя выражения, которые, на их взгляд, отличались изяществом, изысканностью, чувствительностью и утонченностью, они вовсе разучились понимать не только друг друга, но и самих себя. Для этих бесед не требовалось ни здравого смысла, ни глубины суждения, ни памяти, ни проницательности, ничего, кроме остроумия, да и то натянутого, вымученного, - остроумия, в котором слишком большую роль играло воображение»6. Лабрюйер, критикуя языковые новации Скюдери, волей-неволей в качестве «мишеней» избирает те же цели, что Кастильоне описывал в качестве желаемых: «Мы <...>, имея перед глазами торные дороги, стараемся идти кружными путями: ибо и в своем собственном языке, назначение коего, впрочем, как и всех других, хорошо и ясно выражать мысли души, нам доставляет удовольствие то, понимание чего затруднено; и называя его народным языком, мы стремимся употреблять в нем слова, непонятные не только народу, но и людям благородным и образованным, и неупотребляемые более нигде»7.
Приведенный выше отрывок из Лабрюйера косвенно подтверждает суждение известного парижского антиквара Анри Соваля, который в тексте обширного свода «Парижских древностей», созданном в то же время, что и «Характеры», внедрение особого «жаргона» связывал именно с «субботами» м-ль де Скюдери, активно продвигавшей свои идеалы с ноября 1653 г. Соваль утверждал, что именно в период зимы 1657-1658 гг. ее языковая политика стала особенно агрессивной и привлекла широкое внимание парижан8. На волне критики языковых экспериментов Рамбуйе и Скюдери, собственно, возникло обозначение прециозницами женщин, которые разделяли скюдерианские идеалы, а также появились «Смешные жеманницы [прециозницы]» Мольера (1659) и настоящая билингва «Большой словарь прециозниц, или Ключ к языку альковов» Антуана Бодо де Сомеза (1660).
В мольеровской пьесе две провинциальные девицы, пытаясь стать настоящими прециозницами, начинают общаться на особом «дьявольском жаргоне» («diable de jargon», так классифицирует язык девиц отец одной из них - Горжибюс), примерами которого могут быть реплики: «Скорее подай нам наперсника Граций» (имеется в виду зеркало)9; «Поскорее вкатите сюда удобства собеседования» (имеются в виду стулья)10. Именно де Со-мезу мы обязаны фиксацией большинства «прециозных» фраз, в том числе и тех, что фигурируют у Мольера. Заметим, что слова, начинающиеся с неприличного «К», были изгнаны из прециозного словаря; де Сомез такую информацию включает в словарную статью на эту букву. Среди указанных Сомезом фраз: «Мозг - Возвышенное»; «Черные пряди - Сумерки»; «Факелы - Дополнение к Солнцу // Неопалимое»; «Вы прекрасно поете - Вы в высшей степени прекрасно используете свой голос»; «Зад - Смущенный низ»; «Каминная подставка для ног - Длани Вулкана»11. Язык прециозниц дошел до нас фактически только лишь в текстах сатиры. Устремление к аллегории и поиску потаенных смыслов анонсируется в качестве принципа поведения в романе «Прециозница, или тайна алькова» сатирика Мишеля де Пюра, написанного незадолго до мольеровской пьесы. Нельзя не согласится с С. Рейнар, которая утверждает, что в прециозном языке, ставшем одним из симптомов культуры «Новых», гипертрофированно развился эстетизм в ущерб риторике: «концепт свободы заменил собою школьную риторику, столь дорогую для Древних»12.
Прециозные эксперименты с метафорическим переиначиванием слов оказались в центре внимания ученых и светских теоретиков XVII в. Так, в своей «Риторике» (1675) Бернар Лами утверждал, что «перифразом поль-156
зуются в случае, если хотят избежать употребления каких-либо слов или выражений, имеющих неприятный смысл, или если не хотят производить дурное впечатление на слушателя»13. В то же время Лами уже призывает избегать «необычайных» фигур, ибо они противоречат французскому духу: «Французы вообще не любят слишком сильных фигур. Франция -нежная и изысканная страна, не выдерживающая сильных, горячих настроений. Мы уважаем и любим тех, кто умеет сдерживаться, и потому разные необычайные фигуры кажутся нам смешными, за исключением весьма редких случаев»14. Лами в середине 1670-х гг. выступает с критикой аффектации, свидетельством чему как раз и оказывается метафорическая речь; схожие размышления были актуализированы и отцом Домиником Бууром в его вышедших в 1671 г. «Разговорах Ариста и Евгения» («Les еп-tretiens d’Ariste et d’Eugene», созданы в 1662-1666 гг). Несмотря на то, что отец Буур свидетельствует о высоком значении прециозного вокабуляра, который «обогатил французский язык большим количеством слов и выражений»15, он вполне в духе Лами говорит о преимуществах естественности и нейтральности разговора, где не должно быть места аффектации, в том числе и языковой. Для нашей темы особенно интересен разговор «Не-знамо-что» («Je-ne-sais-quoi»); «не-знамо-что» оказывается тем неэк-сплицируемым «обаянием», которое противостоит в том числе прециоз-ной машинерии и жеманству: «То, как вы говорите, свидетельствует о том, что Вам хорошо известна природа этого “не-знамо-что” (je-ne-sais-quoi) <...>. Гораздо легче чувствовать его, нежели знать о нем, - ответил Арист. Если бы все узнали, что он собой представляет, то он уже не был бы je-ne-sais-quoi; по самой его природе он непонимаем и необъясним»16.
Буур фактически концептуализирует французский аналог кастильо-новской grazia - нерационализируемой «харизмы»: «Нет смысла быть хорошо сложенным, умным и веселым и отличаться всем, что нравится каждому; если не хватает je-ne-sais-quoi, то все эти прекрасные качества как бы мертвы, в них нет того, что цепляет или трогает. Это как рыболовный крючок без наживки или прикорма»17. В том же духе выступал в конце века и такой теоретик светского разговора, как Жан-Батист Морван де Бельгард (1648-1734); в его работе претензии к прециозницам лежат именно в плоскости излишней аффектации и чрезмерной тяжести стиля. В своей ключевой работе «Размышления по поводу элегантности и тонкости стиля» («Reflexions sur Г elegance et la politesse du style», 1695) Морван де Бельгард выступил с обличением устремленности к неологизмам, присущей людям света, в особенности женщинам:
«Большинство благородных дам, имеющих разумение и хорошо знающих свет, говорят с тонкостью, при этом не изобретают новых слов, но располагают так удачно те слова, которыми обыкновенно пользуются, что те кажутся такими новыми и как будто специально предназначенными для того, чтобы выразить то, что ими хотят сказать. Выражать все свое чувство в одном лишь слове и оставить догадываться о тысячах приятностях - именно в этом и заключается изысканность выражения. Оно совершенно не состоит в больших словах, в долгих соеди- нениях и сочетаниях слов или же в тщательно сочлененных периодах, необходимо “не-знамо-что” (je-ne-sais-quoi) - естественное, непринужденное, простое, наивное, легкое, но живое и искусное»18.
Укажем, что Бельгард подчеркивает как раз излишнюю напыщенность и неэлегантность стиля, основанного на избытке неологизмов и сочетаниях слов, которые приводили к непониманию, излишней вычурности, искусственности и герметичности, т.е. к affectation, что Бельгард считал уже отличительным качеством прециозного стиля:
«Аффектация, в каком бы роде она ни была, ничуть не нравится разумным людям; в том же что касается языка, она вызывает шок. Дамы горды тем, что постоянно повторяют слова, которые вот-вот только появились на свет и использование которых еще не разрешено; вот этого-то необходимо избегать, ибо ухо еще не приспособилось [к этим словам]. Если присмотреться, то большинство излюбленных слов происходят из прециозного языка, где они обыкновенно находятся»19.
В параграфе «Прециозные слова» («Termes precieux») Бельгард уже признает жаргон прециозниц «больным языком», который возник из чистого позерства и неутолимого желания возвыситься над аудиторией. Наряду с аффектацией, Бельгард упрекает женщин в том, что они, желая прослыть учеными, прибегают к напыщенности стиля, который получал воплощение как раз в «растрате слишком магических терминов»: в качестве примера Бельгард приводит прециозную перифразу, обозначающую закат - «День начинал смешиваться с умирающим светом огня». Бельгард, один из теоретиков светского разговора, полагает, что прециозный язык не может считаться таковым как раз из-за своей авторитарности, надуманности и искусственности соположений отдаленных предметов.
Безусловно, пуристские стратегии Рамбуйе, Скюдери и других прециозниц оказались плодотворными как для французской лексики, так и для синтаксиса. Поиск утонченности, отказ от грубостей и низкого стиля, вульгаризмов - это главные лингвистические постулаты прециозниц, однако именно такие принципы лежали в основе эстетики классицизма. В то же время, прециозный язык быстро стал рассматриваться как девиация или карикатура языка светского; Ж.М. Пелу справедливо говорит о том, что прециозные «языковые инновации были настолько радикальны и многочисленны, что они привели к полной перекройке языкового узуса и сформировали, параллельно с наречием “людей чести”, особый диалект, который был в ходу исключительно у членов прециозной секты»20. Метафорические перифразы, несмотря на авторитет Кастильоне, предписывавшего использование усложненного языка, быстро становились анахронизмами для представителей галантной культуры. Тем примечательнее, что сама критика прециозниц и их языковых инноваций проходит в рамках кастильоновской же философии светскости: вспомним, что в трактате Кастильоне к числу недостойных качеств в разговоре относятся грубость, излишняя эмоциональность, фанатизм, а также педантизм; фактически идеалом придворного оказывается тот, кто способен к мимикрии аффектов: «Всегда крайне неприятное впечатление вызывает губительная для всего аффектация; и наоборот, необыкновенной привлекательностью (gra-zia) наделяются простота и непринужденность (sprezzatura)»21. Такой непринужденности и невообразимого обаяния как раз и недоставало преци-озницам, которые в своих дискурсивных практиках не сумели выдержать баланс между темнотой стиля и его естественностью.
Список литературы Галантное наречие vs "дьявольский жаргон": полемика вокруг аристократического языка во французской культуре XVII в
- Элиас Н. О процессе цивилизации: социогенетические и психогенетические исследования. Т. 1. Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запада. М.; СПб., 2001. С. 180.
- Кастильоне Б. Придворный//Сочинения великих итальянцев XVI века. СПб., 2001. С. 223.
- Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории. Л., 1974. С. 151.
- Бокадорова Н.Ю. Французская лингвистическая традиция XVIII -начала XIX века: структура знания о языке. М., 1987. С. 28.
- Лабрюйер Ж. де. Характеры, или Нравы нынешнего века//Размышления и афоризмы французских моралистов XVI -XVIII веков. СПб., 1995. С. 274.
- Sauval H. Histoires et recherches des Antiquités de la ville de Paris. Vol. 3. Paris, 1724. P. 83.
- Somaize A.B. de. Le grand dictionnaire des précieuses//Duchêne R. Les précieuses, ou Comment l'esprit vint aux femmes. Paris, 2001. P. 414-500.
- Raynard S. La Seconde préciosité. Floraison des conteuses de 1690 à 1756. Tübingen, 2002. P. 313.
- Лами Б. Риторика, или Искусство речи//Пастернак Е.Л. «Риторика» Лами в истории французской филологии. М., 2002. С. 149.
- Bouhours D.Entretiens d'Ariste et d'Eugène. Paris, 1962. P. 64.
- L'art de la conversation: antologie. Paris, 1997. P. 41.
- Denis D. Le Parnasse galant: Institution d'une catégorie littéraire au XVIIe siècle. Paris, 2001. P. 310.
- Pelous J.M. Amour précieux, amour galant: Sur la représentation de l'amour dans la littérature et la société mondaines (1654-1675). Paris, 1980. P. 347.